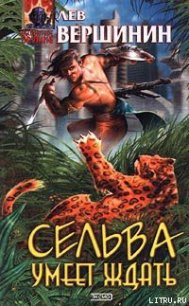Сельва не любит чужих - Вершинин Лев Рэмович (версия книг TXT) 📗
– Унсы – друзья горных. Горные – друзья унсов, – он говорил на странной смеси лингвы и местных наречий, помогавшей объясняться с дикарями во время торга. – Так было, пусть так и будет. За кровь горных уплатили унсы злым, как могли. Если злые придут с равнины к горным брать цену за кровь своих, унсы встанут рядом с горными. Так заповедал Незнающий. Так порешил вуйковский сбор. Я все сказал!
Глядя в умное бородатое лицо нестарого еще мохнорылого, Гдламини чуть склонила голову. Не все ей было пока еще ясно. Но мертвые тела говорили сами за себя. Разве принесет убийца тело убитого в родное селение? Разве станет спасать его от лесного зверья? Она, конечно, пошлет воинов туда, где случилось злое дело. Пусть посмотрят, пусть расскажут. Но краткая честная речь пришельца понравилась ей. Если и впрямь отомстили мохнорылые за людей дгаа, значит, им можно верить. Такие друзья – хороший посох в пути…
– Ты сказал, а я услышала, двинньг, – она не употребила привычного и презрительного словечка «двенньг», отчего обращение сделалось уважительным и достойным. – Люди дгаа – друзья людям двинньг'г'я, Тем-у-Которых-Мягкая-Шерсть-на-Отважных-Лицах. Люди двинньг'г'я – друзья людям дгаа. Если прольется кровь людей двинньг'г'я, люди дгаа уплатят злым как смогут. Если злые придут с равнины к людям двинньг'г'я брать цену за кровь своих, люди дгаа встанут рядом с вами… Так велел Тха-Онгуа, так и будет. Я сказала, а ты услышал!
Гдламини, растопырив пальцы, вскинула руку к Выси, призывая обитающих там Пятерых стать свидетелями клятвы, и старики, стоящие за спиной девушки-вождя, одобрительно закивали, позвякивая кольцами серег.
– А теперь, двинньг, присядь сам к нашему костру, и пускай твои двинньг'двали присядут к нашему костру, и да узнаете вы, каково гостеприимство людей дгаа!
– Хойо! – выкрикнули почтенные старцы, подтверждая приглашение, сделанное мвами.
Это было великой честью!
Никто из унсов еще не удостаивался приглашения к пиршественному кострищу горных дикарей!
На торжище случалось, обмывая сделки, сиживать плечом к плечу, сдвигать чарки, но то было совсем иное. Отведать угощения здесь означало почти побратимство, и вуйк Остап отлично понимал это.
Но знал и другое. Недаром же перед походом в горы так крепко наставлял и проверял его старый Тарас.
Крепки зелья дикарей. И есть среди них такие, что не пьянят, но развязывают язык до последнего узелка. Лишь попробовав, уже готов отвечать на все, о чем ни спросят. А не спросят, так сам расскажешь. До самого донышка вывернешься.
Ни к чему это было нынче вуйку Остапу.
Потому и ответил он прямо и бесхитростно:
– Прости, дивчина-отаман, но не можно мне хмельного…
– Отчего же? – глаза красуни вмиг сделались уже, заискрились нехорошими огоньками. – Разве люди двинньг'г'я брезгуют угощением людей дгаа?
Обида чернобровой была понятна вуйку Остапу. Он и сам в добрые дни гостей из хаты без чарки не отпускал.
– Сладок ваш мед, не сомневаюсь, – отозвался он почтительно. – В иное время до утренних звезд бы с вами трапезовал. Нынче же не могу. Зарок!
Последнее слово он не сказал, а отчеканил.
И, вспомнив очень кстати, добавил по-дикарски:
– Дггеббузи!
Это они поняли. Старики за дивчинкой закивали, запожимали плечами, непритворно огорчаясь.
– А вот если ты, отаман-красуня, велишь своим парубкам мне да хлопцам моим еды в дорогу дать, вот то ладно будет! – закрепил победу вуйк Остап.
И не ошибся. Очи отаманши вновь подобрели. Оно и понятно. По ихним, диким, обычаям, что за столом кусок съесть, что из дому прихватить – все одно, почтение оказать…
А только и он, хлебосольный унс, представить себе не мог, каково почтение горных!
До самых краев накидали в телегу съестного на всякий вкус, аж оол замычал возмущенно, когда пришлось его ногайкой с места страгивать… Ладно еще, что обратная дорожка под гору лежала, а то бы, пожалуй, и не потянула такую-то непомерную кучу упоминков могучая животина!
Не поскупились на припасы люди дгаа, еще и поверх съестного щедро бросили охапку травы нундуни, столь любимой мохнорылыми, а на плечи всем троим накинули, расщедрясь для новых друзей, знаменитые свои плащи из пуха горных птиц, сплетенного с кожей рыб, резвящихся в студеных ручьях. Всем плащам такие плащи! Легки они, что твоя паутина, однако и прочны, притом до того, что уж и прочнее некуда. В этаком плаще в любую пору на улицу иди и горя не знай: в мороз не замерзнешь, в ливень не промокнешь…
И долго еще озирались парубки!
До самого поворота оглядывались, не в силах оторвать жадных взглядов от оставшихся позади машущих на прощание смуглыми руками гологрудых горных девок! Ишь, сладость-то какая… В хату, ясное дело, не приведешь, а вот кабы такую вот, сисястую, да на сеновал затянуть…
Пыхтели хлопцы и нет-нет, да подталкивали друг дружку локтями в бока. А в спину мерно шагающему перед повозкой вуйку озорно подмигивали: мол, старый-то, глянь, друг, старый-то на девок и не взглянул даже!.. Да что уж там, ясно, на то он и вуйко сивый, чтоб девичьей красы не замечать!
Шли себе они, шли, от поселка – до ручья, а там через ручей, возвертались до дому, а в оставленном ими поселке уже творились иные дела, скорбные, для чужих, хоть и дружеских глаз не предназначенные…
Тихо пока еще гудел большой барабан у кострища, тенью бродил вокруг него юный дгаанга, в неровный круг выстраивались люди дгаа.
Много уже их было, а толпа все росла и росла. К ней присоединялись поспевшие в Дгахойемаро по зову алой стрелы мужчины из ближних поселков, и хотя красно-синие боевые узоры еще не испятнали их лиц, но каждый принес с собою тяжелые копья, а у иных за витыми воинскими поясами уже торчали тяжелые тесаки и даже къяххи, боевые топоры, столь кровожадные, что их в мирную пору укладывают спать под землю…
Двоих, привезенных мохнорылыми, уже положили у костра, по обычаю скрестив мертвые руки на груди, но женщины дгаа, даже самые любопытные, не спешили подойти прощаться, да и не всякому, обладающему иолдом, стоило на такое смотреть…
Сказано так: убиваешь – убивай, ненавидишь – замучь.
В этом есть правда.
Но нет правды в том, чтобы замучить незнакомых.
Не только отняли жизнь у мирных охотников неведомые злодеи, но надругались безжалостно. Вымещая беспричинную злобу, отсекли они у мужчин дгаа уши, отрезали иолды, выкололи глаза и вспороли животы, разбросав кишки.
Как теперь услышать несчастным зов Тха-Онгуа?
Как доказать мужскую стать свою пышнобедрым девам, встречающим пришедших у ворот Выси, как увидеть, где разбросаны сети коварной Ваарг-Таанги?..
Одно хорошо: поглядев мертвых, в один голос сказали знающие люди – Мг пришла к ним быстрая, незлая, от кусачих пчелок, что быстро летят из трещащих палок. Нет таких палок у мохнорылых. Есть они у тех, кто живет на равнине…
Молча стояли люди дгаа, молча, хотя и все быстрей ходил туда-сюда у костра дгаанга; молчали старики, и сама мвами Гдламини, суровая и печальная, потупила очи.
Ныне наступило время Великой Матери.
– Инг'гёй! – воззвал к ней, моля выйти из пещеры, кряжистый, еще нестарый воин, отец одного из погибших; одним из первых поспел он на зов стрелы-войны, поскольку жил в селении ближнем, и горьким для него стал миг, когда, заглянув в лицо младшего из мертвецов, признал он своего сына.
– О-ххо! – отозвалось из пещеры.
– Инг'гёй! – выкрикнул в разъятый зев земли дгаанга, по праву заменяя родню второго убитого, ибо опознанный обитал в селении дальнем, и лишь к вечеру возопят в великом горе кровные его, придя в Дгахойемаро.
– Й-ой-э! – откликнулась земля.
А потом вспыхнуло нечто в провале.
И вышла к людям дгаа Великая Мать!
Полностью обнажена была сейчас Мэйли, как и подобает матери, выпускающей из утробы на свет детей своих, и старые груди ее, натертые настоем травы нгундуни, не метались, дряблые, из стороны в сторону, но стояли торчком, подпрыгивали зазывно и юно, словно напоенные молоком.