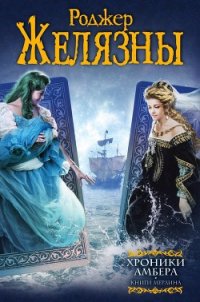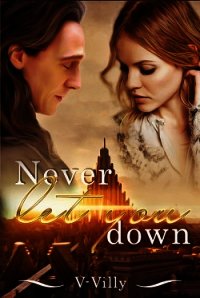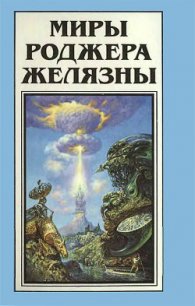Жизнь коротка - Желязны Роджер Джозеф (читать полную версию книги .TXT) 📗
Лимузин ждал у края поля. Он словно бы мчался, даже стоя на месте. Отраженный солнечный свет отливал металлическим блеском, синим, бездонно-небесным. Дредноут на колесах, неумолимый хищник, безжалостный убийца. Длинный капот, низкая крыша; его очертания струились, как полупрозрачные водоросли, ласкающие корпус стремительной подводной лодки. Императорский транспорт, экипаж властелина.
Прибывшие сели в машину. Но наши камеры не показали этого; современные боги должны быть свободны от унижения достоинства, от присущей простым смертным неуклюжести. Боги не сутулятся, им даже не подобает нагибаться — они скользят на крыльях или шествуют по воздуху, наши признанные кумиры.
Общий план издалека — синей волной потекла машина, белый бетон под струящейся сталью.
Вид сверху — автомобиль мчится по сверхскоростному шоссе в величественном одиночестве. Мы освободили шоссе полностью, вплоть до удаления осевой линии. Экипаж пулей летит по центру белого ковра, его очертания смазаны скоростью — и операторской работой.
В безупречно чистом небе сверкает солнце. Пустыня сверху и пустыня вокруг. Камера показывает «Континенталь» на фоне лилового горизонта, следит за его продвижением к застывшей, жестокой красоте города. Камера со спутника передает увеличенный, слегка искаженный вид Финикса с высоты 1000 километров; сеть улиц, длинные тени башен, такие же прямые и резкие, как сами башни, периодические вспышки солнечных бликов. Все это сквозь чуть мерцающую голубую дымку. Вид сверху перемежается видами неумолимой синей рапиры.
На самом деле машина двигалась не так уж быстро. Показания считывающих приборов, как и сценарий, требовали по меньшей мере пятнадцати минут, чтобы успели нарасти напряжение и смутное предчувствие. Когда они достигнут пика, их придержат и направят по нужному руслу; гребень волны, пенясь, разобьется и замрет. Ходом автомобиля управляли компьютеры, напрямую подключенные к приборам. Ошибки не будет.
Шоссе раскалывало город пополам. Камера с вертолета показывала, как оно идет от аэропорта до Площади, словно стрела, словно копье, словно трассирующая пуля, белая молния сквозь плоскую серую пустыню. От Площади автомобильный кортеж направится к Залу торжеств. Три мили пути. Требования к убранству Зала несущественны.
Машина въехала в город.
(Сублиминальные кадры: стрелы, поражающие цель, кинжалы, вонзающиеся в плоть.)
Я нервно взглянул на приборы. Показания пошли вверх; через двадцать минут мы оставим позади пики дневных передач и достигнем нашего первого плато. Индекс эмоциональности начнет превалировать над прочими параметрами. Мы транслируем на весь мир, для каждой временной зоны. Весьма опасный момент — любая ошибка снизит уровень интенсивности и погубит представление.
Звучит проникновенный голос Артура. Он еще не стал решающим фактором, но его значение будет расти. Артур — само Представление; тембр и интонации контролируют тончайшую сеть зрительских мыслей и чувств. Даже если зритель не обращает особого внимания на слова, его нервная система настраивается на восприятие малейших изменений окраски. Все, разумеется, продумано заранее. Здесь нет места импровизации.
Наступает очередь Эдди-бутафорщика. Когда машина вкатывается на Площадь и останавливается (толпа изливает восторг, неистовствуют фотографы), Эдди нажимает на кнопку, и корпус «Континенталя» меняет оттенок. Нельзя сказать, что цвет резко изменился, — это было бы слишком очевидно, слишком грубо. Изменяется коэффициент отражения/преломления, и свет, падающий на поверхность машины, поляризуется. Электрически возбужденные жидкие кристаллы под обшивкой автомобиля переориентируются таким образом, что отражается свет только низкочастотной части видимого спектра. Изменение в цвете вызывает перемену в настроении. Изменив тон от прозрачно-небесно-голубого до закатно-сумеречного, Эдди изменил настроение зрителей — от приподнятого и выжидающего до полного накала обнаженных нервов.
Крыша автомобиля откатывается назад. Приборы регистрируют резкий скачок во внимании. Превосходно — как планировалось. Теперь показания быстро растут. Интенсивность восприятия закручивается в вихрь, в циклон вовлеченности и эмпатии.
Подсознательно они уже готовы к тому, что должно произойти.
III. Кульминация
Семь часов. Показатель эмоциональности взмыл вверх, словно истребитель перед входом в пике. Считывающий компьютер восторженно изрыгал символы на люминесцентный экран; монитор показывал людские толпы, рабски плененные чарующей личностью Уэстлейка, — все мысли настроены на единую ноту. Не лица, а миражи, фокусы воздуха, раскаленного над жаровней пустыни. Наши камеры выхватывают их под сотней заранее вычисленных углов и ракурсов, дают общими и крупными планами, в движении и статике, изнутри и снаружи, как форму и как содержание. Передается великая драма; назревают великие и ужасные чувства. Мы создаем волны, которые с нарастающей силой формируются из моря сырых эмоций.
Сенатор и его супруга встают в машине. «Улыбайтесь!» — командую я, и они улыбаются. Улыбаются искренне, улыбаются честно, улыбаются любвеобильно, с видом очень, очень уверенных в себе людей. Просто они думают о другом. Актеры до мозга костей. До того мозга, что у них остался.
Толпа — океан, калейдоскоп лиц, рев восторга и обожания. Все идет по плану.
Башни Финикса — высокие, омраченные тенями. (На голографических экранах: оскаленные клыки лунных утесов, иглы в завороженные глаза.) Башни — гнездо, насест для хищной птицы. Финикс, пожирающий себя в смерче рождения. Финикс — вечно молодой. Финикс — осквернитель могил и обидчик сирот.
Я шепчу в микрофон, и в неистовом сплетении звука и цвета начинается парад. Автомобиль сенатора — лоснящийся бык, окруженный роем надоедливых крупных шершней — полицейских машин — и мелких мух — мотоциклистов. Толпа томится по быку. Во ртах — застоялый вкус крови. Перед глазами — древнее зрелище бойни, цирк Рима. Они голодны, и мы знаем, что им надо.
В меркнущем свете солнца сенатор с супругой смотрятся отлично, именно так, как нужно. Камера ловит уверенную, сдержанную улыбку. Наплыв: спокойные, холеные пальцы. Узду будут держать крепко. Ваша судьба в надежных руках. Великий Отец. Его облик в двух измерениях рисуется глубже и четче, чем лица зрителей — в трех. Они страждут. Они хотят его.
Хотят безумно.
Даю вид сверху: кортеж движется по идеальной прямой. Это наглядно демонстрирует камера на электровертолете. Она молча следит за плебеями и принцем. Во главе колонны доблестно и величаво движется синий лимузин, словно стальной наконечник стрелы. На флангах — рыцари, серебряные мотоциклисты. За «Континенталем» — четыре полицейские машины бок о бок, фалангой, а затем вереница черных лимузинов поменьше — гарцующие кони сановников настоящих и будущих. Они неотличимы друг от друга и сливаются в темный фон. Фон, не более того, для гордой седой головы сенатора. Все внимание — на него. За лимузинами — еще мотоциклисты; этих и вовсе уже почти не замечают. Позже они сыграют свою роль.
Артур говорит неторопливо, голос спокоен, безмятежен. Он знает свой текст, его неразрывную связь со сценарием. Артур промаха не допустит. Артур аккуратен.
Входит Эдди-бутафорщик и подмигивает мне.
— Все, конец, — шутит он. Эдди — отличный парень, любитель розыгрышей. Обожает иронию и юмор. — Я проверил аппаратуру пять раз.
Эдди не просто рубаха-парень — он тоже аккуратен.
— Для взрыва заряда необходимо замкнуть по отдельности три пары независимых контактов, — с улыбкой сообщает Эдди, откидывая волосы с дождливо-серых глаз. — Первые две — на станции в Нью-Йорке и на Би-би-си-2 в Лондоне. Там уже все готово. Остановка за нами.
Я смотрю на фигуру, заполняющую экран монитора. Сенатор приветливо машет рукой.
— Когда ты отведешь колпачок кнопки «Пуск», на пультах в Лондоне и в Нью-Йорке зажгутся зеленые лампочки. Там, у них, будет пятнадцать секунд, если потребуется дать задний ход. Потом компьютеры взведут взрывное устройство и отключат те пульты. Мы будем предоставлены сами себе.