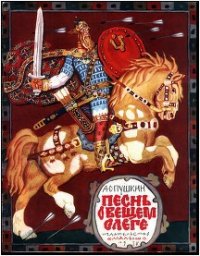Крепостной Пушкина (СИ) - Берг Ираклий (лучшие книги txt, fb2) 📗
— Пьянство есть зло, — подтверждал Безобразов, — потому я винокурни у себя под свой строжайший контроль взял. Волю дай, ведь всё зерно на брагу изведут. Здесь не только долг, но простое человеколюбие требует — мужика надо спасать от самого мужика.
Пушкин и здесь был вполне солидарен, но указывал в ответ на особенность климата, вырабатывающую у мужика привычку к короткому тяжёлому труду летом и лежанию на печи зимой (как и многие господа, он считал зиму временем отдыха крестьянина), отчего не прорастает в народе достаточно инициативы.
Безобразов согласно наклонял голову на слова поэта и говорил о вреде немецких нововведений для русских пашен, которые лишь разоряют помещиков и сбивают мужика с толку.
Так они и ехали вдвоём (вообще-то втроём, но не обращать же внимание на кучера), делясь соображениями о том, как лучше обустроить деревню. Кистенёвка находилась в восьми вёрстах от Болдино, как уже было сказано, но, говоря «вёрст», Пушкин назвал расстояние географическое, которое измеряется на карте в виде прямой линии. Дорога же имела своё мнение на этот счёт и извивалась вёрст на двенадцать. В одном из мест она резко спускалась вниз, пересекая пересохший ручей, и так же резко поднималась, создавая известное неудобство для путников. И надо же такому было случиться, что с бричкой здесь произошло ровно то, что днём ранее с каретой Александра Сергеевича — она сломалась.
Кучер ускорил лошадей, будто надеясь преодолеть подъём одним махом, и они дернулись, но одно из колёс зацепилось за корягу, что-то хрустнуло, и вся повозка завалилась на бок.
— Вы целы, Александр Сергеевич? — поднимаясь на ноги и осматривая себя на предмет ущерба, спросил Безобразов.
— Цел, Пётр Романович, а вы?
— В порядке. Что же ты натворил, братец? — ледяным голосом обратился гусар к мнущемуся в смущении кучеру.
Яшка (как того звали) молча краснел в ожидании наказания. Оно бы непременно последовало — в виде нескольких хороших оплеух, с этим добром у отставного военного проблем никогда не возникало, как Пушкин внезапно указал на поломку.
— Посмотрите, Пётр Романович. Вот здесь.
— Что? А? Вот как.
— Подпилено, Пётр Романович.
— Гм. Действительно. И что это значит, Александр Сергеевич? Чьи-то шутки? — Безобразов быстро наливался гневом, его кулаки сжимались, дыхания не хватало, усы топорщились, как у разозлённого кота. — Шутить со мною? Шкуру спущу. Лично. Говори, сволочь, твои проделки? — вновь обратился он к отступающему от него кучеру. Яшка вдруг быстро перекрестился и дал стрекача, вскочив вверх на дорогу и побежав что есть духу от удивлённых помещиков.
— Стой! Стой, дурак, запорю! Стой, кому говорят, мерзавец! — кричал ему вслед Безобразов, тогда как Пушкин, изумлённый не меньше, о чём-то сосредоточенно думал.
— Пустое, Пётр Романович, не утруждайте себя.
— Нет, но каков подлец! Одно хорошо — дурак!
— Что вы имеете в виду?
— Ну как же. Мог ведь отбрехаться, я не я и лошадь не моя, ну получил бы по морде, вот невидаль, а так враз ясно — знает что-то. Тут-то мы его и выпотрошим как курёнка.
— Вы думаете, Пётр Романович?
— А куда ему бежать, Александр Сергеевич? — возразил Безобразов. — Виноват, отчего и струхнул. Не выдержал. Был бы чист, так и стоял бы, мекал, а коли побежал — виноват. А того не скумекал, шельмец, что бежать ему куда? Мужики и изловят, только сказать. А то и сам вернётся, расскажет, как бес попутал.
— Рад бы согласиться с вами...
— Что не так?
— Да вот — что-то не так, дорогой кузен. Больно уж шибко он помчался.
— Испугался, что проказа его раскрыта, и дал дёру, — пожал плечами Безобразов, успокаиваясь, — струхнул и все дела.
— Будем надеяться, Пётр Романович, что так оно и есть. Надо решить, однако же, что нам теперь делать.
— Идти придётся, Александр Сергеевич. Пешком. Далеко ли осталось, как по-вашему?
— Версты три ещё. Как раз здесь роща начинается, через неё, да два поля за ней.
— Ну что же, делать нечего, пойдёмте. Ногу зашиб немного на зло, а она и так у меня... Вы знаете, пулю словил ещё в тринадцатом, под Дрезденом. Думал уж всё, отберут мне ногу, ведь большая, ружейная пуля. Кость раздроблена. Но пожалел меня доктор. Собрал по кусочкам. Но ходить мне с тех пор тяжело. Почему и перешёл в гусары из егерей. На коне как-то легче. Кстати, что же нам делать с лошадьми?
— Да ничего, — пожал плечами Пушкин, — здесь и оставим, а из сельца пошлём мужиков.
— Ваша правда. Ну что же, пойдёмте?
— Если вас нога беспокоит, то право же, Пётр Романович, оставайтесь здесь, я и один дойду скоро, а там помощь вам вышлю.
— Нет, нет, нет, не уговаривайте меня, не останусь. Вдруг мерзавец как раз в Кистенёвке этой? Хочу ему в глаза посмотреть, да ребра пересчитать. А нога уж потерпит ради такого удовольствия.
— Воля ваша, дорогой кузен. Пойдёмте. Позвольте однако же предложить вам руку, здесь подъём.
— Да, благодарю вас.
Пушкин помог Безобразову, у которого нога действительно плохо слушалась от ушиба, подняться на дорогу, и они побрели в сторону сельца Кистенёвка, весьма злые и раздосадованные.
К Пушкину, впрочем, внешне быстро вернулось привычное благодушное настроение, и он даже отпустил несколько шуток, на которые спутник только хмыкал. Будучи человеком наблюдательным, Пётр отметил странные нотки скрытого напряжения в голосе Александра, и, приглядевшись, понял: того что-то беспокоит, тревожит. Пушкин стал походить на рысь, такое сравнение пришло на ум отставному гусару. Шагал поэт плавно, мягко, словно перекатываясь с ноги на ногу, глазами внимательно ощупывая пространство впереди.
— Вы хотите разглядеть нечто интересное в этих деревьях, Александр Сергеевич, — не выдержал наконец Безобразов, — неужто мыслите, что негодяй за ними прячется?
— Что? — вздрогнул Пушкин, — а? Нет. Кстати, Пётр Романович, скажите, вы случайно не при оружии?
— Оружии? — изумился Безобразов. — Нет, зачем мне оно? Есть клинок в трости, впрочем, но это так. Дань моде.
— Не приходилось использовать?
— Нет.
— Дай Бог, что и не придётся.
— Что-то мне не нравятся намёки ваши, Александр Сергеевич.
— А я всегда при оружии, вот, взгляните, — и Пушкин продемонстрировал пару маленьких карманных пистолетов, распахнув фрак.
— Зачем вам здесь оружие, кузен? — Безобразов даже остановился.
— Я ведь путешественник, Пётр Романович, и бываю не только в наших добрых великоросских землях, вот и сложилась... привычка. Бывали случаи.
— Гм. Оно, конечно, так... Всякое бывает, это верно. Но сейчас вы мне зачем вашу артиллерию показали?
— Интуиция, Пётр Романович.
— Опасаетесь чего?
— Засады, Пётр Романович.
— Засады? — воскликнул Безобразов и громко расхохотался, как умеют все отставные бравые вояки, способные перекричать пальбу целой батареи.
— Тише, тише, прошу вас, — сквозь зубы прошипел Пушкин, — не шумите так.
— Простите великодушно, но право же — как это... странно.
— С удовольствием посмеюсь с вами вместе, Пётр Романович, но потом. Сейчас же — возьмите пистолет, прошу вас.
— Да зачем мне, Александр Сергеевич? Нет, если вы настаиваете, то извольте, — Безобразов взял протянутый поэтом пистолетик, с иронией разглядывая «пукалку», уместившуюся целиком на его широкой ладони. — Заряжен?
— Да, только курок взвести. И не морщитесь так, кузен, оружие есть оружие.
— Знаю я... Не люблю пистолеты, уж больно плохое это оружие. Мне больше шпага или сабелька...
— Отчего так? Оружие верное.
— Верного в пистолетах лишь то, что или мимо, или наповал. И чаще мимо, — возразил Безобразов, уже смирившийся с тем, что посчитал странностью поэтической души своего спутника, великодушно мысленно простивший ему эту маленькую слабость как человеку невоенному, и вновь приходя в хорошее расположение духа от удовольствия собственной снисходительности.
— Это особенные пистолеты, — улыбнулся Пушкин, — заказные, из Лейпцига. Небольшие, но очень надёжные. И стволы нарезные.