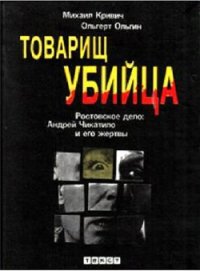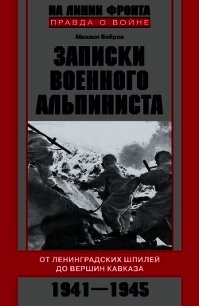Ход кротом (СИ) - Бобров Михаил Григорьевич (читать онлайн полную книгу TXT) 📗
А еще, кроме «во-первых», имелось «во-вторых». Тут уже все немцы — в отличие от гогочущих над пленниками «сичовых стрильцив» Скоропадского — покрылись испариной.
Потому что «во-вторых», новобранцам «Революционно-повстанческой армии Украины» выдавали малые пехотные лопатки. Лопатки! А еще хитрую сбрую из нескольких ремней, куда оказалось вполне удобно вешать подсумки, котелок, ту самую лопатку и прочие необходимые солдату на походе вещи.
У солдата дом — лишь то, что на нем. Что повстанцы вообще о таком задумались, что не стали бросать новобранцев сходу в огонь под крики агитаторов и с комиссаром впереди, выдавало подготовку к войне долгой и упорной, к войне правильных маршей и контрмаршей, охватов и фронтов, а не к войне бандитских набегов оболваненных пропагандой недоучек.
И вот за этим уже явно стояли англичане. Хотя бы потому, что русская армия Великой Войны обходилась единственным мешком- «сидором», даже не рюкзаком или солдатским ранцем времен войны турецкой. Москва сейчас никакой ременной сбруи в больших количествах выделывать не смогла бы, даже захотев: там кожу варили и ели, а не на ранцы пускали. Правда, повстанцы могли бы ремни пошить и сами, человечья сбруя не сложнее конской — но для этого их должен был кто-то научить. Ну и кто, кроме многоумных эмиссаров Антанты?
В-третьих, чему немцы теперь совсем не удивились — а своим туповатым «спильникам» из Гетманщины уже и не сказали — лидеры восставших имели концепцию несложного государственного устройства. По странному совпадению, как раз такого игрушечного государства, которое можно провозгласить прямо сейчас и прямо здесь, и которое худо-бедно заработает почти без грамотных чиновников, практически без писаного закона, без парламентского словоблудия, но и без диктаторской единоличной фанаберии.
Понятно, что в долгосрочной перспективе бунташная пародия на государство не выдержит конкуренции. Опереточные ревкомы можно попросту скупить мелким оптом, еще и недорого выйдет. Но ведь это, пойми, потом! А горячее украинское зерно, те самые кожи, мясо, черный юзовский уголь требовались изнемогающей Германии сейчас, сегодня, немедленно!
Агенты и пленные, и те же немецкие колонисты, и украинские помещики, бежавшие от бунта, в один голос пересказывали, что у анархистских агитаторов на самые ходовые вопросы явно заучены вполне толковые ответы. И по вечно больному земельному вопросу, и по финансам с налогами, и по содержанию больниц. Даже по наполнению школьной программы, о чем пламенные революционеры думают исключительно редко, имелись не просто расплывчатые лозунги общего вида, но четкий катехизис. Что, сколько учебных часов, какой нужен результат от ученика — и, самое главное! — почему именно «это» и именно «так», а не «вон то» и не «вот этак».
В-четвертых, аналитики Германского генштаба обратили внимание, что местные анархисты опираются не на «революционную сознательность масс», а на конкретную выгоду каждого шага. Почерк выглядел совершенно не большевистским: комиссары призывали на жертвы ради туманных контуров светлого завтра. Здешние предлагали сделку: сделай то или иное, и выиграешь вполне конкретную безопасность или свободу от налога. Мало того, меры против самых простых возражений тоже оказались приготовлены. Кто-то позаботился предугадать несколько типовых сценариев разговора и заставил — заставил! — анархическую вольницу их отрепетировать.
Словом, все указывало, что действия повстанцев кем-то продуманы заранее, а сегодня направляются из единого центра. Расслабившаяся было немецкая военная машина заработала и скоро установила главного возмутителя спокойствия. Им оказался житель села Гуляй-поле Александровского уезда Екатеринославской губернии, анархист с дореволюционным стажем, верный ученик «Черного князя» der Kropotkin, якобы учитель и офицер Иван Яковлевич Шепель.
А на самом деле — Нестор Иванович Махно.
Махно в ту среду агитировал село Преображенское, что по дороге на Токмак и Мелитополь. Здешнего помещика давно выгнали, земли поделили, а с чем спорили — с арендой земли. Бедняки- «незаможники» вполне соглашались, чтобы вся земля была в собственности Республики, а люди ее арендовали на год или сколько там надо. Так богатые всю землю скупить не смогут. Богатеи- «дуки», опираясь кто на семью, кто на закопанную кубышку, вполне предсказуемо надеялись именно это и провернуть в скором времени, когда сойдет революционный угар и перестанут орать на митингах всякие там голодранцы.
Племянник одного такого богатея, выбрав момент, подошел по сельской площади к самой церкви, к высокому крыльцу. Встал точно напротив оратора, огляделся: верные товарищи окружали его со всех сторон, защищая от любых действий махновской охраны.
Вокруг собралось человек пятьсот, в свитках, широких штанах, в тканях темных и некрашеных домотоканых, простоволосых и в соломенных брылях. Широколицые, загорелые — что мужики, что бабы, что высушенные «в порох» старики. Подросткам велели сидеть по домам, и большая часть, на удивление, послушалась: тут уже не леща по затылку, тут пулю выхватить можно. Сбежали только самые-самые лихие, и сейчас таращились на собрание с толстых веток единственного крепкого тополя, тени от которого едва хватило на четвертушку сельской площади. Еще и день, как на грех, выдался солнечный, жаркий. До пыльного майдана долетало недовольное мычание коров. Пахло сухой землей, пылью, потом конским и человеческим. Стоял негромкий гул переговаривающихся людей. Приехавшие агитаторы сгрудились вокруг одноглавого маленького сельского храма. Их вороных коней у церковной ограды сторожили зевающие от жары хлопцы. На протолкавшегося в первые ряды вроде бы никто не косился с подозрением. Вот на коней вороных, лоснящихся, волос к волосу — у девок такой косы нет ни у которой! — каждый хоть раз да кинул глазом.
Казак укрывал за полой собственный новенький наган — как там что, а оружие Республика разрешила носить каждому, и это все-таки хорошо… Но земля! Земля важнее. Вся земля мужикам, каждому по сто десятин, чтобы никаких помещиков и духу не ближе ста верст! И чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью — во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку! И пусть никоторая шпана из города не лезет с продразверсткой! Чтобы из города привозили керосин, вот это дельно. А хлеб отнимать не сметь! Сами не съедим — закопаем в землю.
Так вот подумал казак — хорошо, гладко подумал, как по книге писано. Перекрестился мелко, отвернул полу, вытащил жирно заблестевший под солнцем револьвер, оттянул тугую пружину — да и выстрелил прямо в грудь Махно, прямо в карман френча, прямо в сердце. Выстрелил несколько раз, только после первого же раза легонький агитатор отлетел вглубь церкви, и следующие пули пошли над упавшим куда-то в толпу.
Стрелка потянулись хватать и бить, но друзья по сторонам вытащили ножи, кистени, даже сабля нашлась у кого-то. Люди от сабли подались в стороны, и скоро гордые хлопцы оказались в кольце наставленных оглобель, шашек и маузеров махновской охраны.
Подошел высокий, худощавый, лысый парняга с пудовыми кулаками — Лев Зиньковский. Сын еврея-извозчика, работник металлического завода в Юзовке, за вооруженный грабеж в пользу партии отсидевший на царской каторге восемь лет. С января восемнадцатого в Красной Армии, на Царицынском боевом участке, где проявил себя толковым. За это с июля большевики послали Льва в немецкий тыл, в Северное Приазовье. Тут Лев примкнул к махновцам и как-то весьма быстро выдвинулся в контрразведку.
Сейчас он подошел, грызя травинку, на удивление веселый и спокойный:
— Правильно, хлопцы, — сказал своим. — Живьем брать демонов. Надо всю подноготную выбить: кто надоумил стрелять в батьку.
— Мы сами! — крикнул сжатый в напряжении стрелок. — Наша земля, наша правда!
Из-за спины здоровяка Зиньковского вышел…
Стрелок перекрестился, выронив наган прямо в пыль. Хлопцы его ватаги в голос закричали молитвы.