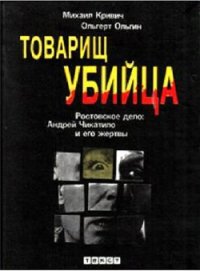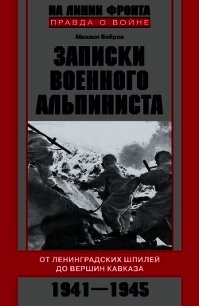Ход кротом (СИ) - Бобров Михаил Григорьевич (читать онлайн полную книгу TXT) 📗
И так, в общем-то, неплохо получилось. Нарком здравоохранения, Николай Александрович Семашко, вовремя подсуетился, обменял некоторое количество доз на необходимую медтехнику. Так у нас появились хорошие образцы рентгеновских аппаратов, скальпелей, шприцев, поворотных кроватей для осмотра и ухода за лежачими больными; да много еще чего появилось. Дзержинский заикнулся было про секретность, но падла-аватар, положа руку на «Капитал», поклялся: лекарство никто на Земле повторить, к сожалению, не способен. Как ни жаль планету, а больше ста тысяч доз чудо-вакцины Советская Россия дать не может: у самих миллионы заболевших.
Так вот, Гражданскую Войну, потери от эмиграции, от болезней, удалось уменьшить, по самым грубым оценкам, примерно на четверть.
Может, и на половину, да с учетом имелась огромная проблема.
Сплошь и рядом человек встречал довоенного знакомого, а тот старого приятеля не узнавал. Ссылался на пережитый тиф, контузию, раны, просто ужас войны. Иногда все устраивалось хорошо: старый друг помогал новому все вспомнить, семья узнавала потеряшку по родинке в нужной точке, и тому подобное. Благо, раздел «Ищу человека» во всех газетах мой наркомат размещал уже больше года. Люди распробовали, анкеты заполнять худо-бедно научились. И даже отпечатки пальцев сдавали охотно, без малейшего принуждения: вдруг тебя, контуженного-беспамятного, семья ищет? Вдруг найдет как раз по капиллярным узорам на подушечках? К осени девятнадцатого процесс воссоединения разметанных войной семей шел уже во всю ширь.
Ну, а заполняющаяся анкетами картотека для чекистов — это так, побочный эффект.
В эту картотеку и обращался удивленный «старый друг» во втором, плохом, случае. И старательные девочки в форме простым сравнением карточек внезапно выясняли, что забывчивый «новый друг», не желающий признавать брата Колю, например, из белогвардейцев. Или вовсе в банальном розыске за разбой-грабеж. А документы взял с убитого. С красноармейца или просто подходящего фигурой и лицом человека.
Правда, выявлялись таких случаев считанные единицы. Не выявленных было, наверняка, сотни тысяч.
Поэтому оценить урон от Гражданской не получалось без общегосударственной переписи, а для этого надо хотя бы общее государство. Союз-то пока еще только яростно, до хрипа, обсуждали на заседаниях Совнаркома.
Голод в Поволжье нас миновал. Да, неурожай случился. Но в данной истории махновское Приазовье не занималось фигурной резней по кому попало, а сеяло и запасало хлеб. И красные армии не рвались за всеми зайцами сразу, и рабочие с большинства заводов не усеяли костьми заволжские степи. Так что за приазовский хлеб можно было культурно заплатить керосином и ситцами, а не свинцом и нагайками продотрядов.
Наконец, заводы пищевого порошка расползлись уже широко между Брестом и Волгой и появлялись местами даже за Уралом. Санитарные врачи проверяли их, как обычные мельницы или там пирожковые. Процедура не составляла проблем из-за крайней простоты производства.
Обычный заводик состоял из распиленной вдоль железнодорожной цистерны. Два полученных больших корыта, отмытые и луженые оловом, помещались в отапливаемом сарае, где накрывались от мусора простенькими рамами, остекленными в одно стекло. Дальше в корыта наливалась чистая вода, запускалась хлорелла, где и удваивала собственную массу каждые сорок восемь часов.
Рабочие поддерживали в сарае тепло где углем, где дровами. Вычерпывали прибыток обычными лопатами, сушили на обычных ситах и мололи в муку на привычных же мельницах, без грамма хай-тека. Мукой сперва кормили скот, а в неурожайные годы кто-то попробовал замесить на ней хлеб — и не умер. И даже сказал, что лепешки пресные, но можно, например, с уксусом. На халяву-то и уксус, как известно, сладкий. В голодный год и вовсе не до кулинарии.
Большие заводы пищевого порошка строились уже со стационарными бетонными ваннами, с большими сушилками. На каждый большой завод назначался куратор-биолог — пока что от Наркомата Информатики. По мере подготовки кадров планировались передать все это в Наркомпищепром, но пока что за качеством следил студент-возвращенец, а на головных опытных предприятиях даже профессор. Так что в больших заводах уже рисковали разводить криль и выпускали рыбную муку.
Заниматься пищевым порошком начали еще в восемнадцатом году, имея в виду именно вот смягчить последствия неурожая двадцатых. Неудивительно, что готовившаяся три года индустрия вывезла. Сукин кот аватар меня даже в известность поставил мимоходом, без подробностей: выкрутились и выкрутились.
Вообще, как-то дико звучит: «я меня в известность не поставил».
Что со мной происходит?
Где я настоящий?
Хрен теперь поймешь. И линкор, плывущий в теплых бирюзовых водах Адриатики — я. И революционный матрос-анархист Корабельщик, по которому напрасно вздыхают барышни Наркомата Информатики — тоже я. И сотни миллионов нанороботов, собирающих сведения в Москве, приводящие их в удобопонятную форму — снова я.
Значит, голод в Поволжье минус. Легко получилось? В общем, да: всего-то прокомпостировал Махно за дисциплину, вот Батька и организовал анархическую республику. Я же только убедил Совнарком не давить всех инакомыслящих под ноль. Фигня вопрос, на моем месте любой бы справился. Суперлинкор я, или где?
Правда, Троцкого и Тухачевского больше нет с нами, но где же вы видели приготовленный омлет без молодецкого удара по яйцам?
Наука более-менее движется тоже. Начав изучать вопрос эмиграции, я поразился, помнится, двум вещам.
Во-первых, инженеров уехало не так уж много. Философов, художников и писателей намного больше.
Во-вторых, даже уехавшие рубили концы далеко не сразу и вовсе не потому, что имели какие-то идеологические расхождения с новой властью. В конце-то концов, бетон и в Африке бетон. Один квадратный сантиметр кирпича выдержит одиннадцать килограммов что при царе, что при Керенском; и точно так же один квадратный сантиметр стали выдержит две тысячи сто килограммов. А сварной шов со всеми ослабляющими коэффициентами — всего лишь тысячу пятьсот тридцать, и никакой трудовой энтузиазм тут не помощник.
Подавляющее большинство уехало из-за того, что разрушенная начисто страна просто не могла предложить нормально оплаченную работу на заводах: две войны снесли промышленность в ноль. Построить же новые заводы снова оказалось не на что.
В эталонной истории деньги получили сплошной коллективизацией, прошедшей по стране как небольшая война: минус два миллиона. На этом-то переломе застрелился Маяковский. В эти-то годы великий химик Ипатьев, сагитировавший много коллег помогать Ленину, не вернулся из Берлина: Ипатьеву там на конгрессе шепнули, что-де им заинтересовалось НКВД. В эти-то годы сел Туполев, а за ним почти все авиаконструкторы того времени.
Тогда полностью сменилась вся система власти, все люди в ней. Союз двадцать седьмого года и союз тридцать седьмого — небо и земля.
На данной ветке истории страна пока что двухголовая. Нет монополии у коммунистов-большевиков, левые эсеры вполне достойно уравновешивают их как в Совнаркоме, так и в местных советах. Буржуйские карикатуристы рисуют новым гербом двухголового орла с лицами Ленина и Чернова. Газетчики поумнее рисуют Змея-Горыныча о двенадцати головах, добавляя туда Махно, Капсукаса от литовско-белоруссов, Колесова от Туркестана, и вообще всех председателей многочисленных советских республик.
Наконец, самые умные рисуют еще и крымского Верховного, того самого князя-флотоводца, как часть многоглавой «гидры социализма».
Правда, с редакциями самых умных происходит всякая ерунда. То подерутся мальчишки-рассыльные, да и рассыплют подготовленный к завтрашней печати набор, в смысле: стальные рамки со вставленными в строгом порядке буквицами. То парижский клошар или чистенький английский бомж-офицер, ненужный отход прогремевшей Войны, с тоски заночует на пороге редакции. Прольет спьяну виски, подожжет его неловко раскуриваемой трубкой или там сигаретой… То просто припрутся из рабочих кварталов коммунисты с «инсталляцией звездюлей», перформансом по всем правилам нового искусства. «Почему у вас такая странная шпага, синьор? — Это арматура, прекрасный сэр!»