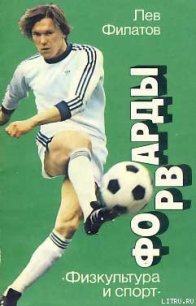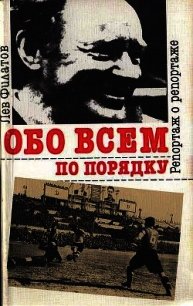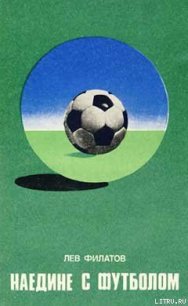После матча - Филатов Лев Иванович (книги регистрация онлайн .TXT) 📗
И все обстояло бы прекрасно, да не отпускает другое чувство, скорее всего странное, неразумное, а умом его не подавишь. Это ощущение пустоты и ненужности после отъезда команды, словно в тебе что-то лопнуло, оборвалось. И что сильнее всего – вина за случившееся, будто ты сам бегал по полю и оскандалился. Откуда это, ты ведь ни с какого боку не причастен к проигравшим юниорам и увидел-то их впервые?! Можно ведь утешиться и тем известным правилом нашей профессии, что для заточенного перышка конфуз иной раз сподручнее, чем успех: есть где разгуляться, поиронизировать, да и выбор слов богаче и вольнее.
Бродишь, любуешься заокеанскими диковинками, а на душе пасмурно, и мексиканский безнадежно ясный, стойкий солнцепек допекает глупой назойливостью, лучше бы небо затянуло, ближе к настроению. И в самый разгар осмотра чего-то небывалого вдруг сорвется с языка: «Ничем они других не хуже, просто силы своей не знают!» На тебя удивленно взглянут, переспросят, а ты деланно улыбнешься и руку приподнимешь в знак того, что все в порядке, и станешь с еще большим усердием пялить глаза. Вбито в нас наше дело, как гвоздь, по самую шляпку, клещами не вытянешь. Так и живешь, что в Мехико, что в Москве.
Все это не было связанным размышлением, тут и думать-то не о чем, просто мелькнуло, осветив предстоящую неделю.
Мы с Игорем Горанским, местным корреспондентом Советского телевидения и радио, сидим, как сидели в ложе прессы, и молчим. Все, что видел, я наговорил в микрофон, в Москве записали на пленку, Горанский мой репортаж слушал, и обсуждать нам нечего. Репортаж, знаю, ко мне еще вернется. Пока не до него. Пусть все уляжется: и волнение, и усталость до опустошения, и обида.
Посиживаем якобы в ожидании, когда публика схлынет и проще будет пройти к машине. Мы люди дела, у обоих седина в волосах, у Игоря ранняя, у меня своевременная, мы не можем себе позволить махать кулаками после драки, выпаливать пронзительные, жалкие, напрасные слова. Мы при исполнении обязанностей, мы в дороге, нам завтра утром предстоит автомобильное путешествие отсюда, из Гвадалахары, в Мехико, пятьсот восемьдесят километров. Для Горанского – домой, для меня – поближе к дому.
Я принимаю как должное негромкие слова Горанского: «Надо будет заварить чайку в термосе, в пути лучше ничего другого не пить». Согласно киваю, хотя мое согласие не требуется. Мы оба вскользь улыбаемся, благодаря друг друга за то, что о проигранном матче ни слова.
– Пошли?
– Да, пожалуй, можно.
За журналистские годы я привык ждать дорогу. Никогда она не была для меня преодолением расстояния. В детстве, при сборах на дачу, услышал я от старухи, помогавшей матери паковать вещи, поговорку: «Домашние думки в пути не годятся». Осталась в памяти и постоянно оказывалась уместной. Дашь себе слово, что ни о чем не станешь думать, отключишься, хватит, намотался в редакции и дома до одурения, и неведомо откуда наплывают мысли все о той же редакции и о том же доме, но в дороге они ровнее, ты даже им рад, чувствуя, что здесь ты не пугаешься растерзанности и сбивчивости всего того, что было с тобой, и легко находишь, что надо сделать, что сказать. Или, наоборот, надеешься, что дорога подскажет выход, озарит догадкой, а голова позорно пуста, пробавляешься цветными журнальчиками, разглядываешь соседей и зло коришь себя за то, что теряешь время, а от нажима еще хуже. В самолете ли, в поезде, в автобусе, автомобиле дорога одаривает или обманывает, радует или огорчает. Ей не прикажешь. Это только кажется, что она держит нас на полке или в кресле, куда-то доставляет. Дорожные часы, не похожие ни на какие другие, оставляя нас наедине с собой, дают возможность ощутить, каковы мы на самом деле, позволяют усомниться в благополучии и утешиться в сомнениях. Переезд ли, перелет, это и перемена, перелом, отрыв от привычного, предчувствие – они встряхивают или останавливают, без них, привыкнув, уже не мыслишь жизни, они нужны, чтобы понять самого себя, чем занят, что тревожит. Я с симпатией смотрю на тех, кто в дороге и ночью сидит с открытыми глазами.
На этот раз нас двое. А когда в пути двое, лучше, если один подчинится. Вожатый деятелен и озабочен, даже если нет поводов, он занят, да и самолюбие свое холит. В молодости я любил брать в руки путеводную нить, была ли это ходьба за грибами, рыбалка, прогулка по родным московским переулкам или командировка и шастанье наугад по улицам Ленинграда, Одессы, Львова, Парижа, Стокгольма, Рио-де-Жанейро. А со временем открыл, что пребывание в пути на вторых ролях оставляет с впечатлениями, которые вожатый пропускает, как и пристало человеку, погруженному в руководство. И я научился подчиняться с превеликой охотой, зарабатывая одновременно ни за что репутацию человека покладистого.
Здесь же существовали и другие причины. Как-никак мы находились в Мексике. Правда, будь я любителем повластвовать, мог бы понадеяться на то, что в этой стране побывал тринадцать лет назад, когда разыгрывался чемпионат мира по футболу, и тогда, как и сейчас, ездил из Мехико в Гвадалахару и «прекрасно все помню». Но я не помнил ровным счетом ничего. Тогда, в семидесятом, утонув в глубоком кресле тяжелого автобуса, везшего меня на матч Бразилия – Англия, я всю дорогу беспокоился, как бы не опоздать. Я удовлетворялся наблюдениями за черноволосым толстоватым шофером в голубой рубашке, чьи уверенная мешковатая посадка и округлые движения рук внушали мне доверие, хотя то, что рядом с ним У стекла примостилось распятие, смутно тревожило, напоминая о милостях, которые вдруг могут понадобиться в рейсе, наполовину ночном.
И как у всякого спешащего пассажира, в памяти оседало отрывочное, беглое, что придется: рекламные Щиты, красная земля, ввинченные в сухую твердь запыленные кактусы, остановка в пути, когда шофер на виду У всех нас, терпеливо глазевших на него из окон автобуса, сидел за низеньким столиком и, расставив локти, хлебал густую лапшу, растягивая удовольствие, пейзажи плоские, тягучие, длинные, насколько хватало взгляда, но не вызывавшие любопытства, а что там, за ними, еще дальше, ибо дальше должны были быть те же выпасы, поля, кактусы и ничего другого, не то что посреди наших русских перелесков с голубой таинственной чертой на горизонте.
Так было тринадцать лет назад. А два дня назад я снова проделал тот же путь и, как мне показалось, в том же самом автобусе, с тем же шофером, с тем же распятием возле стекла. Я очень старался что-нибудь узнать, вспомнить какой-нибудь городок, церквушку, магазинчик, но нет, как ни таращил глаза, как ни надсаживался, приказывая памяти поработать, ничего не получилось. Так что ориентирами я не разжился, всего-навсего приобрел право, при случае, небрежно прихвастнуть: «По Мексике я поколесил изрядно». Такие заявления производят впечатление, даже если к ним ничего не добавлено. И в письменном виде тоже. Ну как же: бывалый человек, сам все видел, так сказать, эффект присутствия. Мы, спортивные журналисты, обычно этим и ограничиваемся, быстро перескакиваем на те дела, ради которых нас командировали, и не понять, откуда репортаж, из Лужников или со стадиона «Халиско» в Гвадалахаре: «офсайд», «пенальти», «пушечный удар».
Теперь мне предстояло в четвертый раз проехаться по этому маршруту, вернуться из Гвадалахары в Мехико. Не в рейсовом автобусе, а в низком, широком «шевроле» цвета шампань, служебной машине Горанского. Игорь осторожно намекнул, что я, только что проделавший этот путь, могу взять на себя роль штурмана. Не исключено, что в его великодушии сказалось и то, что я старше, да и как-никак редактор-, в нашей среде это, правда, не как звездочки на погонах, но смутно учитывается. Я решительно отказался.
Хотя Игорю не доводилось ездить по этой трассе (в Гвадалахару из Мехико он добирался кружным путем), сомнения ему были чужды. Человек дела, он, как я успел заметить, все ему предстоящее продумывал по-шахматному, с вариантами, и мое «пассажирство» воспринял, скорее всего, с облегчением.