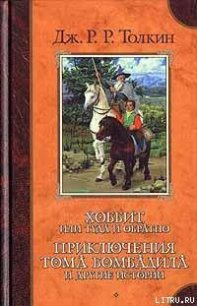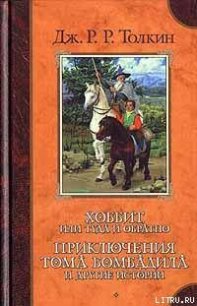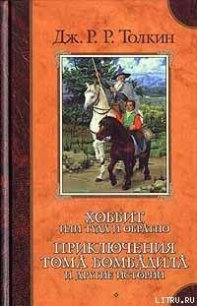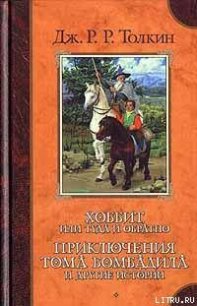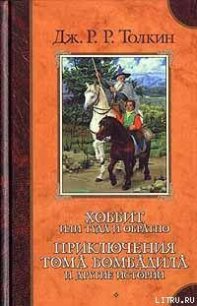Чудовища и критики и другие статьи - Толкин Джон Рональд Руэл (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Ранние стадии я видел мельком. Когда–то я знал двоих людей (наличие двоих в данном случае — редкость), которые придумали зверинский язык, почти полностью состоящий из английских названий животных, птиц и рыб; они свободно болтали на нем к вящему изумлению окружающих [3]. Я так и не обучился ему как следует и не стал настоящим носителем зверинского, но в памяти у меня сохранилось, что собака соловей дятел сoрок значило «ты осел» [4]. В некотором отношении язык был удивительно примитивный. В нем (что тоже встречается редко) полностью отсутствовало фонематическое придумывание, которое, хоть и в зачаточном виде, обычно присутствует в любых такого рода построениях. В системе числительных «осел» обозначало число 40, и поэтому слово «сорок» получило противоположное значение.
Лучше сразу оговориться: не ошибитесь насчет моего кота, который понемножку начинает выбираться из мешка! Я не собираюсь описывать забавный феномен, называемый иногда «языками детской» — те люди, о которых я говорил выше, были, конечно, маленькими детьми и позже перешли к более сложным формам творчества. Некоторые такие языки столь же индивидуальны и своеобразны, как и тот, что я описал. А другие таинственным образом получают широкое распространение и безо всякого вмешательства со стороны взрослых кочуют из детской в детскую и из школы в школу, а иногда даже из страны в страну, причем неофиты обычно уверены, что владеют одним им известной тайной. Например, «язык» с добавлением слогов. Я до сих пор помню, как удивился, когда ценой упорного труда довольно бегло овладел одним из этих языков и вдруг с ужасом услышал, как на нем разговаривают два совершенно незнакомых мальчика. Предмет этот очень интересен. Он связан со сленгом, арго, жаргоном и подобного рода порождениями, а также с играми и много с чем другим. Он пересекается и с моей темой, но сейчас я не буду на нем останавливаться. Меня интересует чисто лингвистический аспект, который иногда присутствует даже в детских выдумках. Критерий, отделяющий разновидности, на которых я остановлюсь, от тех, которые я опущу, заключается в следующем. Жаргоны совершенно не интересуются отношениями звучания и значения: в них нет ничего художественного — разве что художественный эффект возникает случайно, как и в настоящих языках: если, конечно, его вообще можно достичь непреднамеренно. Они куда более «практичны», чем даже настоящие языки, или по крайней мере претендуют на эту практичность. Они нужны либо для того, чтобы ограничить возможность понимания строго определенным и подконтрольным кругом, либо чтобы получать удовольствие от ограниченности этого круга. Они служат тайному и гонимому обществу или тем, кто, повинуясь странному инстинкту, притворяется членом такого общества. Средства достижения цели примитивны, хоть и «практичны». За эти орудия обычно хватаются без разбору люди молодые или неотесанные, которые берутся за сложное дело безо всякой подготовки, а часто и безо всяких к нему способностей или интереса.
В связи со всем вышесказанным я не стал бы приводить в качестве примера детей, придумавших зверинский, если бы не обнаружил, что секретность в их цели не входила. Их язык мог выучить любой желающий. Он не был придуман, чтобы запутать или одурачить взрослых. Тут–то и появляется нечто новое. Значит, детям нравилось еще что–то, кроме тайного общества или процесса инициации. Что же? Мне кажется, что им нравилось пользоваться своими языковыми способностями, которые у детей развиты и дополнительно усиливаются изучением новых языков исключительно для удовольствия и развлечения. Есть в этой мысли нечто привлекательное: она наводит на разные размышления, и хотя я всего лишь коснусь их мельком, я надеюсь подтолкнуть к ним и мою аудиторию.
Способность рисовать значки на бумаге присуща всем детям (в раннем возрасте) в достаточной степени, чтобы овладеть по крайней мере одной системой письма в сугубо практических целях. У части детей эта способность развита больше и может привести к овладению мастерством иллюстрации и каллиграфии удовольствия ради, что, правда, во многом сродни рисованию.
Языковая способность — способность производить так называемые членораздельные звуки — присуща всем детям (обучение всегда начинается в раннем возрасте) в достаточной степени, чтобы овладеть по крайней мере одним языком в более или менее практических целях. У части детей эта способность развита больше; они могут стать не только полиглотами, но и поэтами, лингвистическими гурманами, наслаждающимися изучением языков и их использованием. Языковая способность связана с более высоким искусством, о котором я веду речь и которому пора уже дать определение. Искусство, для которого жизнь слишком коротка: создание воображаемых языков (подробно проработанных или схематично набросанных) ради развлечения, ради удовольствия от творения и даже от возможной критики. Хотя я много распространялся о скрытности адептов этого искусства, скрытность эта не важна сама по себе и является лишь случайным следствием обстоятельств. Да, творцы — индивидуалисты, они стремятся к собственному удовлетворению и самовыражению, но как любым художникам, им необходима аудитория. Возможно, что они, как и любые филологи (включая собравшихся здесь), понимают, что широкого рынка их товарам не найти, равно как и широкого признания. Но они вряд ли стали бы возражать против камерного, профессионального и беспристрастного разбора.
Но я прервал нить собственных рассуждений, перескочив сразу к ее логическому завершению. Предполагалось, что она приведет от низших стадий к вершинам. Мне довелось повидать кое–что получше зверинского языка. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше усложняется задача: у «языка» много аспектов, которые можно развивать. Я уверен, что я встречал далеко не все.
Хорошим примером более высокой ступени является один из создателей зверинского; второй (что характерно, не главный вдохновитель) бросил это занятие и увлекся рисованием и дизайном [5]. Первый же разработал язык под названием невбош, или «Новая чепуха». Следуя традициям игровых языков, он все еще претендовал на роль средства некоего ограниченного общения — различия между жаргоном и искусством на ранних стадиях еще размыты. Тут появился я. Я входил в группу носителей невбоша.
Хотя я так и не сознался в этом, я закоренел в тайном пороке еще больше, чем создатель невбоша, хотя был не старше его годами. (Тайным порок был лишь потому, что я не смел надеяться на его обсуждение или критику). И хотя я помогал с лексикой и слегка изменил орфографию невбоша, он и до того был вполне пригоден к употреблению и задумывался как таковой. На нем стало трудно болтать с такой же легкостью, как на зверинском — ведь игры не могут занимать все время, когда тебе навязывают еще латынь, математику и прочее. Но он вполне годился для переписки и даже для сочинения песенок. Думаю, что и сейчас, хотя невбош уже свыше двадцати лет [176] как мертвый язык, я мог бы составить более обширный словарь невбоша, чем словарь крымского готского, записанный Бусбеком [177]. Но из связных отрывков я помню только один, и довольно дурацкий:
Этот словарь, если бы я все–таки сделал глупость и записал его, и эти отрывки, перевести которые может только единственный ныне здравствующий носитель, — не то чтобы очень, но все же примитивны. Я их специально не усложнял. Но они уже весьма познавательны. Невбош еще недостаточно развит, чтобы заинтересовать ученое сообщество, на возникновение которого я питаю надежды. Заинтересовать он способен главным образом исследователей и филологов, и потому мне в данном случае важен лишь отчасти. Но я коснусь его, поскольку, как мне представляется, он не вполне чужд целям данного абсурдного доклада.
176
В рукописи изначально стояло «свыше 20 лет». Впоследствии эта дата была исправлена карандашом на «почти 40 лет». См. Предисловие.
177
Фламандец Бусбек записал некоторые слова из языка крымских готов: восточногерманского языка, на котором еще говорили в Крыму в XVI веке.