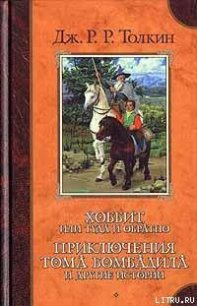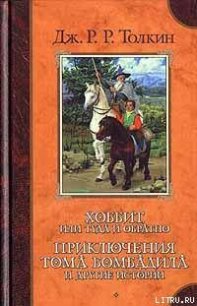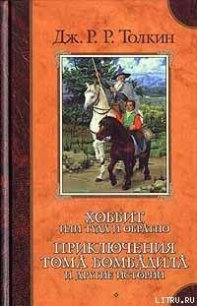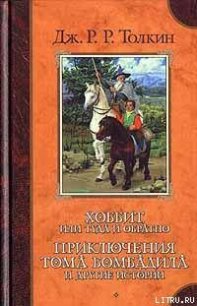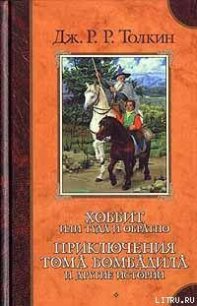Чудовища и критики и другие статьи - Толкин Джон Рональд Руэл (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Как я уже сказал, эти вкусы и предпочтения, открываемые в нас при контакте с языками, не выученными в детстве, — O felix peccatum Babel! [69] — безусловно, обладают немалой значимостью: это отражение нашей личности в терминах языка. А поскольку личность определяется в большой степени историей, значит, предпочтения — тоже. Таким образом, получаемое мною удовольствие от валлийского, пусть и обладающее некоей индивидуальной окраской, не должно выделять меня среди всех прочих англичан. Оно и не выделяет. Оно присуще не одному из них. Мне кажется, оно дремлет в душах очень многих из тех, кто ныне живет в Lloegr [Англии — валл.] и говорит на Saesneg [английском языке — валл.]. Оно может дать о себе знать в неловких шуточках о валлийском правописании и названиях валлийских деревень; оно может пробудиться всего–то навсего при встрече с именами персонажей артуровских романов, где слышится отдаленное эхо их изначальной кельтской принадлежности; однако при благоприятных условиях оно может проявиться очень отчетливо [173].
Современный валлийский, конечно, не вполне удовлетворяет предпочтения таких людей. Моих он не удовлетворяет. Однако он, наверное, остается ближе к ним, нежели любой другой живой язык. Для многих из нас это первый звонок, или скорее даже аккорд на арфовых струнах языка, запрятанных глубоко в нашей природе. Другими словами, мы в душе — для собственного удовольствия, а не ради имперской политики — все еще британцы. Это наш родной язык, к которому мы испытываем неосознанное влечение, — идя к нему, мы идем домой.
Что ж, в надежде умиротворить такими словами тень Чарльза Джеймса О’Доннелла, я заканчиваю, эхом вторя заключительным строкам предисловия Солсбери [174]:
Тайный порок
Некоторые из вас, возможно, знают, что около года назад в Оксфорде проходил конгресс эсперантистов. Я сам отношусь к сторонникам «“искусственного” языка». Вернее, мне кажется, что он априори необходим для объединения Европы, пока ее не поглотила не–Европа. Есть на то и другие причины. Я верю в возможность существования искусственного языка, потому что мировая история, насколько она мне известна, представляет собой расширение человеческого контроля (или влияния) в сферах контролю неподвластных, и верю в постепенное распространение более или менее упорядоченных языков. Эсперанто мне особенно нравится, и не в последнюю очередь потому, что он, в конечном счете, — детище одного–единственного человека, не филолога, а потому является «человеческим языком, не пострадавшим от избыточного количества поваров» [1]. Это лучшее определение идеального искусственного языка (в узком смысле), на которое я способен [175].
Пропаганда эсперанто наверняка учитывает все вышесказанное. Я с ней не знаком. Но это неважно, потому что меня занимает совсем другая разновидность искусственного языка. Как видите, я начинаю издалека и осторожно. Это уже вошло в привычку, и вам придется с этим примириться. Моя сегодняшняя тема вообще требует осторожного отношения. Я собираюсь публично признаться в тайном пороке — ни больше ни меньше. Начни я прямо с этой темы, неприкрыто и откровенно, я мог бы назвать свое эссе апологией Нового Искусства или Новой Игры. Но случайные, с трудом вырванные признания заставляют меня подозревать, что порок этот распространенный, хоть и тайный, а искусство (или игру) нельзя назвать новой, хотя множество людей открыли ее независимо друг от друга.
Но те, кто склонен к этому пороку, так стыдятся его, что очень редко показывают свои произведения друг другу, так что непризнанными остаются и гении игры, и великолепные «примитивисты». В те времена, когда это «искусство» добьется признания, их забытые работы обнаружат в ящиках столов и, возможно, за баснословные суммы продадут американским музеям — хотя, конечно, продавать не будут ни сами авторы, ни даже их наследники и правопреемники. Не думаю, что признание станет «общим» — это искусство слишком трудоемко и кропотливо: за всю жизнь его адепт вряд ли сможет создать более одного шедевра и, самое большее, нескольких гениальных очерков и набросков.
Я никогда не забуду, как случайно выдал себя один низенький человечек (он был еще меньше меня ростом), чье имя я забыл. Случилось это в невыносимо тоскливый момент, в грязной и мокрой палатке, полной пропахших тухлым бараньим жиром складных столов и мокрых, по большей части унылых, личностей. Мы слушали чью–то лекцию о картографии или окопной гигиене или искусстве проткнуть другого человека, не заботясь (вопреки Киплингу) о том, кому Господь пришлет счет. Вернее, мы старались не слушать, но от гвардейского голоса и гвардейского языка [2] никуда не денешься. И тут человек, сидевший рядом со мной, вдруг мечтательно обронил: «Да, винительный падеж у меня будет выражен приставкой!»
Очень примечательное высказывание! Приведя его, я, конечно, выпустил кота из мешка или по крайней мере приоткрыл его усы. Но отвлечемся на минуту. Задумайтесь над этими великолепными словами: «Винительный падеж у меня будет выражен…» Блестяще! Не «винительный падеж выражается», не еще более неуклюжее «винительный падеж обычно выражается», не мрачное «вы должны выучить, чем он выражается». Какое замечательное обдумывание вариантов, какое смелое и нестандартное принятие окончательного решения в пользу приставки — такое индивидуальное, такое привлекательное: судьбоносное добавление некоего элемента в общий замысел, до сих пор не удававшийся его творцу. Никаких низменных «практических» соображений, никакой оглядки на то, что будет проще для «современного» или «массового» сознания — дело чистого вкуса, собственного удовольствия, индивидуальное чувство композиции.
Произнося эти слова, человечек улыбался счастливой улыбкой поэта или художника, который внезапно нашел, как завершить не удававшийся раньше отрывок. Но вытащить его из раковины оказалось невозможно. Мне так и не довелось ничего больше узнать о его тайной грамматике, а военные перипетии вскоре раскидали нас, и более я его не встречал (до сих пор, по крайней мере). Но я понял, что этот странный субъект, который потом всегда немного стеснялся, что ненароком себя выдал, в скуке и убожестве «походной подготовки» утешался и развлекался придумыванием языка, своей собственной системы и симфонии, которую никому другому не дано было изучить или услышать. Я так и не узнал, сочинял ли он его в уме (на что способны только великие мастера) или записывал. Кстати, одна из привлекательных черт такого хобби состоит в том, что оно почти не нуждается в инструментах! Не знаю, далеко ли он продвинулся в своих трудах. Быть может, его разнесло на кусочки как раз тогда, когда он придумал какой–нибудь замечательный способ выражения сослагательного наклонения. Войны не слишком милостивы к хрупким развлечениям.
Смею утверждать, что он не был одинок, хотя прямых доказательств у меня нет. Это неизбежно, поскольку большинство людей, многие из которых более или менее способны к творчеству, а не просто к «потреблению», получают образование, изучая языки. Мало кто из филологов полностью лишен созидательного инстинкта — но твердо они знают только одно: строить надо из готовых кирпичей. Должно быть, у таких людей есть целая тайная иерархия. Какое место в ней занимал мой человечек, я не знаю. Думаю, что высокое. Я могу только догадываться о том, как сильно отличаются друг от друга достижения этих тайных мастеров, — и подозреваю, что существует полный спектр: от грубых каракуль деревенского школьника до высот палеолитического или бушменского искусства (а, возможно, и выше). Но достичь совершенства наверняка мешает одиночество, отсутствие общения, открытого соперничества, изучения чужой техники и подражания ей.
173
Да будет мне позволено еще раз сослаться на свой труд, «Властелин Колец» — имена персонажей и названия мест в книге в основном придумывались в соответствии с моделями, намеренно воспроизводящими валлийские (и получились весьма похожими, но не вполне совпадающими). Этот элемент повествования, возможно, доставил большее удовольствие большему количество читателей, чем что бы то ни было еще.
174
Dyscwch nes oesswch Saesnec / Doeth yw e dysc da iaith dec [Учите английский всю жизнь / Изучать его мудро, то прекрасный, отличный язык].
175
В черновике первого абзаца этого эссе (вероятно, перерабатывая его), отец написал, что он «уже не так уверен, что [искусственный язык] — это благо», и добавил: «Теперь я думаю, что мы скорее всего получим нечеловеческий язык, а поваров вовсе не останется — их место займут специалисты по питанию и дегидрирующие средства».