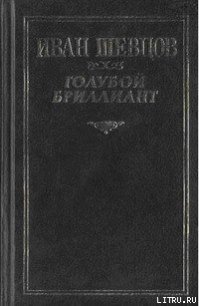Соколы - Шевцов Иван Михайлович (е книги .txt) 📗
— Это бесподобно: такое под силу только гению, — восторгался Ефим Николаевич, уже выйдя из мастерской. — Недаром Максим Горький так высоко ценил Павла Дмитриевича. А Горький понимал толк в живописи.
— И в людях, — добавил я. — Павел Дмитриевич как человек — необыкновенный. Подвижник с душой апостола.
Большое впечатление произвел на Ефима Николаевича и Вучетич, как художник и человек, именно как личность. Евгений Викторович поражал всех его знакомых и друзей вулканической энергией, невероятной работоспособностью, энциклопедической эрудицией. Это был человек крупномасштабной души, принципиальности и последовательности в своем творчестве. Особенно, когда речь шла об идейных позициях. Для него принцип патриотизма, народности и партийности в искусстве был незыблем. Этот принцип он утверждал своим искусством и своими публицистическими статьями, с которыми он часто выступал на страницах газет и журналов. Этого он требовал от своих друзей — активного участия в идеологических баталиях.
Ефим Николаевич подарил Вучетичу свои книги. В отличие от некоторых художников, Евгений Викторович читал быстро и много. Прочитал он и Пермитина — «Охотничьи рассказы» и «Ручьи весенние».
В то время Вучетич лепил мой портрет. Работа продвигалась медленно, не так, как вначале предполагал скульптор — закончить за три-четыре сеанса, на самом деле потребовалось восемь сеансов. Из писателей Евгений Викторович лепил не многих: М. Шолохова, Ф. Гладкова, В. Кочетова и К. Федина. Портреты последних двух остались незаконченными. Но они нравились Пермитину тем, что в них уже просматривался характер человека, его сущность. Вучетич умел заглянуть во внутренний мир портретируемого и передать зрителю главное в человеке. В этом отношении очень характерен портрет А. В. Жильцова, и Ефим Николаевич даже с некоторой завистью восторгался им. Я решил предложить Вучетичу сделать скульптурный портрет Пермитина и спросил Евгения Викторовича, прочитал ли он книги, подаренные Ефимом Николаевичем.
— Хорошо чувствует природу. Влюблен в нее, — начал Вучетич.
— Но сам он, как личность, интересней своих сочинений.
— Любопытно.
— Ты не согласен? Возможно я ошибаюсь: я не читал его «Горных орлов», — продолжал Вучетич развивать свою мысль. — Но мне кажется в наше суровое и неспокойное время надо бы писать не о вальдшнепах и лосях, не смаковать их убиение. Будь моя воля, я вообще бы запретил охоту. Сегодняшнего читателя волнуют другие проблемы — острые, жгучие. Вот бы к ним и обратиться Ефиму Николаевичу с его талантом и страстью.
Я пытался возразить: мол, каждому свое. А «Ручьи весенние» — это и есть сегодняшняя наша жизнь, освоение целинных земель. Но Вучетич с присущим ему запалом перебил меня:
— Так-то оно так, ручьи ручьями, но хотелось бы острого откровенного разговора писателя с читателями. И на той же целине есть свои сложности, проблемы. — И потом сразу, без перехода:
— Ты думаешь я не мог бы лепить веселого самодовольного позирующего целинника или камерные вещи, обнаженное женское тело, статуэтки для гостиных на жанровые сюжеты. Но время требует от нас иного. Помнишь у Маяковского: «В наше время тот поэт, кто пишет марш и лозунг»?
Вучетич любил Маяковского и многие стихи его знал наизусть.
Часто у Ефима Николаевича бывал известный художник Б. В. Щербаков. С Борисом Валентиновичем они дружили. Как мне думается, сблизило их отношение к природе. Оба великолепные пейзажисты, они хорошо понимали творчество друг друга. В живописной коллекции Пермитина есть и работы Щербакова. Борис Валентинович, в отличие от Вучетича, понимал Пермитина с его страстью охотника и рыбака. Вучетич прошел войну, и тема ратного подвига стала главной в его творчестве. Биография художника, его жизненный опыт и личная судьба откладывает свой отпечаток на творчество, часто диктует сюжеты и темы. Пермитину не довелось участвовать в войне. И хотя его глубоко волновали текущие события нашей жизни, он все же писал в своих книгах о том, что глубоко знал. Его «Первая любовь», по словам самого автора, вещь в основе автобиографичная. Щербаков написал композиционный портрет Ефима Николаевича. До этого он создал психологически глубокий выразительный портрет А. В. Жильцова. Борису Валентиновичу удалось передать внутреннее состояние писателя, озабоченного судьбами своей страны и народа. Охотничьи аксессуары, составляющие фон портрета, лишь внешне подчеркивают увеличенность писателя, и главное не в них, а в той глубокой задумчивости гражданина и патриота, которая запечатлена в его глазах, во всем притязательном облике.
Я не охотник и не рыбак, и за всю свою жизнь лишь четыре раза, и то случайно, участвовал в охоте. Но однажды Ефим Николаевич уговорил меня поехать с ним на рыбалку на Рыбинское море. Там, в Борке, жил и работал его младший сын Игорь. Был апрель, конец подледного лова. Пермитин остановился у своего сына, я в гостинице. Жили мы там неделю, и все эти дни с утра до вечера Ефим Николаевич провел на льду, склоняясь над лунками. Клев шел хороший, и мне было приятно не столько вытаскивать из лунок окуней, лещей и крупную плотву, сколько наблюдать за своим другом. Он весь преображался, по юношески суетился, глаза сверкали неподдельным восторгом. Он, как ребенок, радовался каждой рыбешке, переживал, когда она срывалась. Для него это не была забава; он делал дело с увлечением, я бы сказал вдохновенно, и получал глубокое наслаждение. Это была его страсть, частица его жизни. Я зримо представлял его на охоты рыщущего по трудным таежным тропам в поисках зверя. Да, это частица его жизни. Ведь он родился в суровом и прекрасном крае— на Алтае среди охотников, рыбаков и земледельцев, для которых охотничий промысел был обычным трудом, профессией. И эта жизнь естественно и закономерно отразилась в его книгах. И роман «Ручьи весенние» был «оперативным» откликом писателя на злобу дня. Поэтому я не мог всецело согласиться с Вучетичем, по мне больше прав был Всеволод Кочетов, который в предисловии к роману Пермитина писал: «В «Ручьях весенних» подкупает ощущение действительной жизни. Писатель сумел передать подлинную атмосферу, в которой живут и работают молодые целинники, правильно наметить конфликты, показать расстановку сил».
ИВАН ВИНОГРАДОВ
В венской газете «Цайт» 4 мая 1979 года была опубликована статья К. Шмидта-Хойера «Русизм, как псевдорелигия». Вот ее начало: «Московский институт математики — учреждение, имеющее международную репутацию. Менее известно, что это гнездо миротворчества, откуда исходят националистические призывы и где испытывают ностальгию по Сталину. Философский кружок, который там возник, вдохновляется директором Института Иваном Виноградовым, большим ученым математиком и неисправимым антисемитом, его заместителем Львом Понтом (Понтрягин), который считает интернационализм главным врагом в борьбе за человеческие души, и другим известным математиком Шафаревичем, который проповедует солженицинскую мистику «крови и почвы» в более светском и более приемлемом для системы варианте.
Недавно директор Института представил русофильскому кружку своего личного друга Ивана Шевцова… Перед математиками он прочел отрывок из своего последнего произведения: Сталин принимает маршала Рокоссовского и дарит ему белые розы: это трогает маршала до слез. Эту прозу поэт Феликс Чуев дополняет стихами: «Об отце и сыне» («Верните Сталина на пьедестал — для молодежи нужен идеал»)… Сегодня крайние националисты считают Сталина орудием русской истории, а его чистки — избавлением от марксистов-западников и от еврейских разлагающих идей».
Что ж, скажем спасибо г-ну К. Шмидту-Хойеру за признание за институтом математики Академии наук международной репутации. Что же касается «неисправимого антисемита», то оставим это на совести австрийского автора. Давно известно, что тавром «антисемит» сионисты клеймят всех без исключения патриотов страны, стонущих от сионистского засилья. Академик Иван Матвеевич Виноградов был не только великом ученым, но и ревностным патриотом России. Он принадлежал к блистательной плеяде великих русских ученых, таких, как Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, И. В. Курчатов, обогативших науку фундаментальными открытиями, имеющими непреходящее мировое значение.