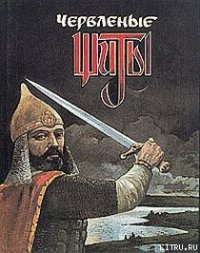Этика Михаила Булгакова - Мирер Александр Исаакович (лучшие книги .TXT) 📗
Но почему молния символизирует Воланда?
Предложим парадоксальный ответ: потому что она символизирует явление Христа на землю для Страшного суда [58]. «…Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой», — говорится у Луки [59]. Булгаков переносит этот образ на Воланда — опять-таки с переворотом, не на прибытие для Суда, а на момент прощания с Москвою, после суда (как можно предположить): «Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле» (779). Такой перенос абсолютно естественен в этико-теологической системе Булгакова, ибо для него Христос и идея Страшного суда несовместимы. Впрочем, еще не настало время для рассмотрения темы горнего суда во всей ее полноте. Булгаков ведь имел право опереться и на другое высказывание Луки: «…Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» [60].
И вот, рядом с молнией, возвышенной некогда до символа Спасителя — я не случайно назвал Христа так для этого случая, ибо Страшный суд по канону есть спасение правоверных, — выскакивает из-под земли орудие подлого убийства. Это — Булгаков, это его гениальное умение «тасовать», связывать воедино противоположности, выстраивать встречные ряды. Противоположности сходятся всегда; молния блистает и над общественной уборной, в которой «бандиты» избивают добровольного доносчика. «От удара толстяка вся уборная осветилась на мгновение трепетным светом, и в небе отозвался громовой удар». Затем: «Этот второй… съездил администратора по другому уху. В ответ опять-таки грохнуло в небе…» И далее: «…Освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли…» — и предоставили действовать Гелле (528, 529). Заметим, это еще деталь в том же духе: «совершенно нагая девица» встречает гостя в бандитском притоне.
Державный знак аккомпанирует даже не удару ножом в сердце, но всего лишь хулиганскому удару по уху.
Сцена в уборной помещена почти в конце десятой главы «Мастера», а в одиннадцатой главе впервые является на сцене заглавный герой. Она очень короткая, одиннадцатая глава, и подчеркнуто перебита главою о спектакле в Варьете, за которой и идет тринадцатая глава, названная «Явление героя»; там прозвучат слова о молнии и финском ноже. То есть читатель как бы подготавливается к пониманию этих слов, подготавливается натуралистическим, форсированным строем сцены в уборной: каждый из трех ударов описывается отдельно, кепка слетает с головы в толчок, еще специфический уличный жаргон: «паразит», «гад», затем снова натуралистическая сцена в Варьете, уже откровенно дьявольская.
Не вызывает сомнений то, что Азазелло носит маску бандита, надетую для данного случая. Непонятна пока цель маскарада; непонятно, зачем маска связывается, хотя бы намеком, со знакомством Мастера и Маргариты. Правда, в сопоставлении со сценою убийства Иуды из Кириафа можно нащупать параллель: Мастера, как и Иуду, любовь должна привести к гибели — но от бумажных финок литературных критиков-бандитов… Как Низа привела Иуду под ножи, так и Маргарита заставит Мастера против его воли публиковаться, открыв ножам и грудь, и спину. Параллель неприятная, так ведь и жизнь редко бывает приятной.
Мысль о том, что Азазелло познакомил Мастера с Маргаритой по приказу Воланда, можно считать, во всяком случае, приемлемой. Очень интересно теперь трактуется маска Форкиады; ведь Мефисто приобрел этот облик в целях своднических, чтобы добыть для Фауста уже следующую за Гретхен возлюбленную — Елену Прекрасную. Получается намек чрезвычайно уместный: Мастер, этот новый Фауст, любил одну Маргариту, вплоть до смерти, и после смерти — «настоящей, верной, вечной любовью»… В ней одной он получил из рук дьявола всю красоту мира.
17. Вне очереди:
Гретхен, Маргарита, Гелла, Фрида
Право же, невозможно размышлять о «Мастере и Маргарите» упорядоченно; все время что-нибудь упускаешь. Раз уж мы, говоря о свите мессира Воланда, затронули тему вечной любви, сменим на время заданный прежде ракурс, отложим тему хулиганства и пустим мяч сюжета катиться так, как он покатился: по тропе сравнения с любовной историей «Фауста».
История Гретхен в «Фаусте» воистину дьявольская по цинизму и беспощадности. Когда отодвигаешь ее на вытянутую руку, извлекши из стального сейфа пиетета, то удивление охватывает: ежели Фауст был, по Гете, «любимым рабом» Бога, то как христианский Бог не покарал его за гнусное тройное злодеяние: убийство матери Гретхен, убийство младенца, неимоверные страдания и гибель юной женщины, почти ребенка? Почему он позволил Фаусту порхать по жизни далее — и наслаждаться счастьем с Еленой?
Избави Боже, это не морализирование, речь идет о логике. По Гете, дух творческого познания, поиска ключевого мгновения бытия — превыше всего. Превыше даже человеческой жизни — и, разумеется уж, превыше любви. Соответственно, личность Гретхен оказывается редуцированной: она покорна в любви, покорна в страдании, покорна в смерти. Она в высшей степени способна к любви, но Фаусту-мужчине любовь не нужна; ему нужно ДЕЛО (die Tat) — такова логика Гете, если вылущить ее из художественной ткани.
Эжен Ионеско резонно заявил, что критика убивает произведение, привязывая любую его часть к некоему реальному контексту, — но тут же заметил, что благодаря такой противоестественной операции проясняется контекст. Так вот, в контексте воззрений интеллигенции конца XVIII века женщина, очевидно, представлялась редуцированной личностью, «утехой солдата», как сказал современник Гете Наполеон. Языческий идеал женщины — Прекрасная Елена оказалась идеальным мифологическим образцом такой солдатской любви — не субъектом, а объектом, покорно переходящим из рук в руки — какие сильней; идеальной женщиной для Фауста.
Мне кажется, что Булгаков опротестовывает такое отношение к любви уже в названии романа. Не «Мастер» — как назвали бы в XVIII веке, а оба имени рядом, причем демонстративно поставлено — над эпиграфом из «Фауста» — имя женщины, беспощадно растоптанной в трагедии Гете [61]. В тексте романа есть и другие прямые метки любовного сюжета «Фауста». «…Всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее» (543) — так автор представляет читателю красавицу Геллу, прислуживающую Воланду. В другом случае — «багровый шрам на шее» (620).
В сцене «Вальпургиева ночь» Фауст встречает призрак Гретхен, скованной и мертвой:
Мефистофель сердито объясняет, что перед ним Медуза, демон-мститель, обращающий мужчин в камень. Что голова ее, отрубленная Персеем, съемная и что каждый видит в ней свою возлюбленную. Соль в том, что Гретхен, пока Фауст развлекается, за убийство своего ребенка попала в тюрьму, была судима и приговорена к смерти на плахе — к отсечению головы.
Этот образ языческого демона-женщины, принявшей облик юной жертвы Фауста, чрезвычайно насыщен. В нем страдание — и языческая телесность, и грозная красота женщины-обольстительницы, мужской погибели. Ясный намек на то, что грех соблазна принадлежит не мужчине, а женщине, что Фауст не так уж и виноват — в кроткой Гретхен скрывается убийца-Медуза. Вина Гретхен задана ее полом, она женщина, «сосуд греха» в протестантской терминологии. Сцена Вальпургиевой ночи «Фауста» построена так, чтобы выделилось женское начало греха и плоти. Пляшут голые ведьмы, Мефистофель и Фауст ведут с ними скабрезные разговоры; Медуза-Гретхен — тоже плоть, и Фауст рассматривает ее сладострастно.
58
Символика молнии разобрана в «Евангелии Михаила Булгакова», в главе «Пятое прочтение».
59
Лк. XVII, 24.
60
Лк. Х, 18.
61
Мы будем называть героиню «Фауста» Гретхен, а героиню «Мастера» — Маргаритой.
62
Гете. Фауст. Пер. В. Брюсова, с. 179.