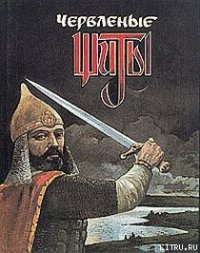Этика Михаила Булгакова - Мирер Александр Исаакович (лучшие книги .TXT) 📗
Он поворачивает к свету всех — и неизменно вскрикивает про себя: «Не верю!»
В образе Иешуа идея Мышкина: «Сострадание есть главнейший закон человечества» — персонифицируется и подается как закон, не знающий исключений. Еще раз: Мышкин все-таки более всего сострадает любимым людям; сострадательность же Иешуа направлена на всех людей и как бы особенно — на врагов. Его ответ на знаменитый евангельский вопрос «Что есть истина?» — почти прямое заявление: истина в сострадании. Прочтем это внимательно; он говорит: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова… я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает» (441). Это говорится судье, чужестранцу, врагу… Слова: «А ты бы меня отпустил, игемон» тоже сострадательны.
Ударение здесь на слове «ты»: ты не простишь себе моей смерти… Булгаков досказал за Достоевского: гений сострадания достоин божественного нимба; Иисус должен был быть таким — слепцом, «идиотом», «безумным философом»… Мышкин и Иешуа не просто следуют один за другим, они дополнительны, как сказал бы Нильс Бор; они объясняют друг друга. Движение от личности к идее — так можно кратко обозначить трансформацию героя Достоевского в героя Булгакова.
Наконец, что должно быть выделено особо, Булгаков генерализовал мысль Достоевского о социальной опасности благой идеи в реальном мире, в мире людей с ножами. В конце 26-й главы (и I части) исследования мы уже сталкивались с этим пугающим положением — тоже при совместном прочтении Булгакова и Достоевского. Но там обсуждалась макросоциальная, утопическая идея «царства будущей гармонии»; здесь мы затронули идею, относящуюся к социальной психологии, к конкретным отношениям между людьми сегодня. Так вот, она, эта сегодняшняя идея, фундаментальна, из нее вытекает будущее. Если сострадание не находит себе места в сем мире, то ожидание грядущего добра остается пустой утопией. Идея грядущей гармонии несбыточна потому, что людям чуждо сострадание; она опасна потому, что люди, лишенные сострадания, повернут во зло все доброе, что им предлагается.
Нам осталось затронуть еще одно положение, важное, как мне представляется, и для этики Достоевского, и для этики Булгакова. Оба русских писателя модернизировали канонический облик Иисуса Христа; старший — неявным образом, младший — открыто. И Мышкин, и Иешуа отличаются от Иисуса тем, что они не принимают и не понимают страха; не боятся сами и никогда никого не пугают. Здесь Булгаков снова генерализует мысль своего учителя: бесстрашие Иешуа показано с пронзительной силой, а кроме того, ему приписана максима: «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков».
В «Евангелии…» я уделил особую 12-ю главу двойственности проповеди Иисуса. Он призывал к сострадательному поведению: «…Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» [151]. Но такое поведение не было самоценным; нравственность была выкупом за спасение на Страшном суде. Иисус запугивал своих последователей: «…И рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов» [152]. Он и явился к людям как карающий судья: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» [153]. Он сравнивал себя с разящей молнией, блистающей «от одного края неба… до другого края неба» [154].
Угроза Суда есть основное противоречие в идее Нового Завета, идее пришествия доброго Божества. Фактически Иисус не был добр; он рассчитывал на человеческую трусость, и страх был в его системе воззрений положительным качеством, необходимым условием спасения. (Может быть, это не имеет прямого отношения к теме, но по Луке, например, сам Иисус — человек очень осторожный и осмотрительный. Он тщательно конспирируется; посылая апостолов готовить тайную вечерю, «Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он…» [155]. Он храбр в конце пути, но отвага как бы не принадлежит ему самому; он жертвует собой по велению Отца: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» [156]. Булгаков трансформировал эту просьбу о помиловании себе в предупреждение Пилату, которое недавно приводилось: «А ты бы меня отпустил, игемон…» Еще более показательно, что в романе «какой-то прохожий с кувшином в руках» (729) фигурирует в истории убийства Иуды из Кириафа. Агент Иисуса превращен в агента римской полиции, точнее даже, в агента Афрания — человека, сильно смахивающего на Азазелло…)
Итак, мы рассуждали о страхе. Иисус не мог заявить: «трусость — один из страшных пороков», поскольку сам рассчитывал на человеческую трусость. Трансформация его в Мышкина и Иешуа, с их поразительным, безоглядным бесстрашием, символизирует стремление православия XIX века к образу безупречно доброго Божества (и, разумеется, стремление литературы к созданию законченного образа). Иешуа имеет моральное право на осуждение трусости, ибо он, в отличие от евангельского героя, сам не боится властей, никого не призывает «отдать кесарево кесарю» и никого не принуждает следовать за собой под страхом «плача и скрежета зубов».
151
Мф. VII, 12.
152
Мф. XXIV, 51.
153
Лк. XII, 49.
154
Лк. XVII, 24. Здесь приводится, разумеется, малая часть эсхатологических угроз. Из Луки выбраны высказывания, ассоциируемые с символикой Воланда.
155
Лк. XXII, 10.
156
Мф. XXVI, 39.