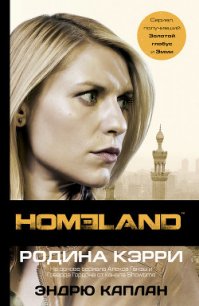Пять прямых линий. Полная история музыки - Гант Эндрю (версия книг txt, fb2) 📗
Седьмая симфония – могучее и озадачивающее сочинение. Музыкальный почерк Шостаковича здесь виден во всем, равно как и результаты невозможной попытки увязать свои симфонии с событиями вне концертных залов и собственного интеллекта. Его следующая симфония, Восьмая, получила название в честь решающего военного сражения – Сталинградская. Как и в случае с симфониями среднего периода Воана-Уильямса, их настоящее отношение к военным событиям до сих пор не получило внятного объяснения. Отчасти в этом их сила: это подлинные и долговечные свидетельства чего-то важного, хотя и не вполне понятно чего.
Аарон Копленд сказал, что «холодная война для искусства почти так же плоха, как и настоящая» [1486]. В 1953 году его обвинили в связях с вымышленным коммунистическим пугалом, таким же коварным, как и настоящие коммунисты, преследующие Шостаковича. Копленда вызвали на слушания печально известной Комиссии по расследованию неамериканской деятельности, порождения параноидальной фантазии сенатора Джозефа Маккарти. Копленд перед лицом угрожающе выглядящего Маккарти был совершенно спокоен.
Председатель. Отвечайте на вопрос: знаете ли вы что-нибудь о коммунистическом движении?
Мистер Копленд. Только то, что прочитал в газетах.
Председатель. Вы когда-либо были на коммунистических собраниях?
Мистер Копленд. Боюсь, я не знаю, что вы называете коммунистическими собраниями [1487].
Расшифровка выступления была обнародована только в 2003 году. Зловещая пантомима не оказала большого влияния на карьеру Копленда (хотя другим повезло меньше).
Маккарти никогда не притворялся, что что-либо смыслит в музыке. Настоящие коммунисты размяли свои культурные мышцы и вцепились ревизионистскими клешнями в российскую музыку вновь в 1948 году: на свет появился так называемый указ Жданова [1488]. Советские композиторы, в том числе Шостакович, вновь были обвинены в формализме. Разрешена была только подлинно пролетарская музыка. Шостакович потерял пост в консерватории и большую часть доходов. Его сочинения были запрещены к исполнению, привилегии его и его семьи были отобраны. Друг воспоминал, что композитор «ждал ареста ночью на лестничной площадке у лифта, чтобы по крайней мере не беспокоить семью» [1489].
Пугающий ночной стук в дверь так и не раздался. Однако в Нью-Йорке в следующем году разыгралась нелепая пантомима. Сталин отправил Шостаковича в составе делегации на Всемирную конференцию в защиту мира. На пресс-конференции ему подали листок с заготовленной речью. Нервничающий, близорукий, не слишком хорошо говорящий по-английски, он запнулся на середине. Речь дочитал за него актер. В зале сидел влиятельный российско-американский композитор-эмигрант и умелый музыкально-политический манипулятор Николай Набоков. Твердо намеренный загнать Шостаковича в ловушку с целью показать, что тот не может говорить свободно, являясь лишь попугаем партии, Набоков спросил его, поддерживает ли он осуждение советскими официальными лицами музыки Стравинского. Шостакович восхищался Стравинским. Однако он не мог сказать «нет». Набоков вынудил его солгать. На улицах толпа несла таблички с требованием от Шостаковича бежать в США тем же путем, которым это сделали до него другие: «Шостакович! Выпрыгивай из окна!»
Участие Мессиана в публичной музыкальной полемике по большей части свелось к основанию им в 1936 году группы La jeune France [1490] – это была очевидная реакция на фривольность «Петуха и Арлекина» Кокто. Он был по природе и в силу обстоятельств консерватором: женатый модернист, консервативный католический профессор и церковный органист. После войны он посетил влиятельные Дармштадские летние курсы, однако не стал сторонником модернистской программы действий, которую выдвинул нахальный юный его соотечественник Пьер Булез, пророк нового направления и нового поколения. Его короткий роман с электроникой не оставил на его музыке особого отпечатка, за вычетом любви к ясным, порхающим звукам волн Мартено: его вторая жена, Ивонна Лорио, была одной из ведущих исполнительниц на этом инструменте, часто способствуя введению партий для него в сочинения своего мужа, подобного огромной и невероятно колоритной Турангалила-симфонии 1946–1948 годов.
Бриттен тоже ощутил, как холодный ветер модернизма отодвигает его на периферию по мере того, как меняются вкусы публики: символической в этом смысле была позиция нового главы BBC Уильяма Глока, убежденного сторонника авангарда. Но репутация Бриттена, его талант и невероятное публичное обаяние всегда позволяли ему двигаться своим артистическим путем, в первую очередь в опере: в намеренно небольших «Поругании Лукреции» (1946) и «Повороте винта» (1954), равно как и более масштабных, подобно «Билли Баду» (1964), которую многие провозгласили его лучшей оперой. «Военный реквием», впервые исполненный в 1962 году, описывает ужасы и бедствия войны – в нем стихи Уилфреда Оуэна помещены между частями заупокойной мессы; сольные голоса в нем описывают личные переживания между совокупным коллективным высказыванием хора и отдаленным пением хора мальчиков; все это производит неизгладимый эффект. Сочинение было исполнено в новом соборе Ковентри, возведенном рядом с обломками разбомбленного средневекового здания, оставленного в разрушенном виде в качестве памятника. Копленд – что неудивительно после его опыта общения с сенатором Маккарти, – отошел от своих ранних левых политических симпатий. Прошедший в 1948 году в Праге Международный конгресс композиторов во многом вторил Жданову в своем анализе отчуждающего эффекта элитистской экспериментальной музыки; к этому времени Копленд разделял данную точку зрения – но не политику и стилистику конгресса. Он отправился в Европу, чтобы услышать новую польскую и русскую музыку, в Японии ознакомился с сочинениями Тору Такэмицу и восхитился ими; он утверждал, что электронная музыка демонстрирует «угнетающее звуковое однообразие», а алеаторическая (основанная на случае) вынуждает композитора «балансировать на грани хаоса» [1491]. Он дополнил свою книгу «Наша новая музыка», представляющую собой вдумчивый обзор современной сцены, и слегка изменил название на «Новую музыку».
И он, и в меньшей степени Шостакович обратились к еврейским музыкальным темам. Шостакович стал использовать музыкальный шифр, основанный на буквах его имени и фамилии, подобно Баху, – в его случае это были D, S, C и H [1492]. Копленд экспериментировал с сериализмом в Фантазии для фортепиано, написанной в 1951–1957 годах, полагая техническую сторону этой манеры не научным откровением, но «всего лишь углом зрения. Как техника фуги» [1493]. Для него 12-тоновый ряд был еще одним мелодическим ресурсом, который можно было использовать в тональном контексте; Бриттен и Шостакович усвоили подобный же подход в, соответственно, «Повороте винта» и Четырнадцатой симфонии, малерианском, пронизанном темами смерти песенном цикле, завершенном в 1969 году и посвященном Бриттену. (Два композитора встретились в 1960 году при содействии их общего друга, виолончелиста Мстислава Ростроповича, и естественным образом подружились, хотя общаться могли только на «альдебургском немецком»). Бриттен относился к религии по большей части как профессионал на зарплате: сочинять по заказу Te Deum для него было как «перекладывать на музыку телефонную книгу» [1494].
Шостакович, лавировавший в политических водах, имел в запасе несколько козырей. Когда в 1953 году умер Сталин, он достал из стола множество спрятанных там сочинений. В 1960 году он вступил в Коммунистическую партию. Почему? Его шантажировали? Оказывали на него давление? Из трусости? Или в силу обязательств? Чтобы получить пост генерального секретаря Союза композиторов от Хрущева, который казался менее угрожающим? Мотивы поступков нервного, одержимого и часто взвинченного Шостаковича распознать так же трудно, как и выражение его лица за хамелеонскими очками с толстыми линзами. В 1962 году он женился на третьей жене, Ирине, 30 годами моложе его, – это был самый счастливый его брак.