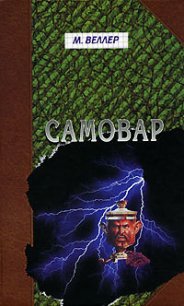Долина идолов - Веллер Михаил Иосифович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
Семен Никитович родился… («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», – взглядом сказал один маститый другому. – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»,– ответил взгляд.) …В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман – «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР…
И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.
Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трощенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трощенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.
Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирного стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протежировал, звонил в журналы, даже одалживал деньги – из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.
И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.
Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».
Полтораста человек надышали в зале, совея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдают человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, – но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекал ось на сведение старых литературных счетов – перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернутся с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы…
Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.
И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смельгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.
Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его – огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.
Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник… входите в число наследников?» – ответил не совсем впопад: «Нет, я его друг… по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде… говорили обо всем… много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным…
Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выделил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.
Н-не хотелось Темину это разрешать… но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджимает.
Старик подержал конверт и стал ломать сургуч, кроша.
Темин, выдвинувшись, объявил:
– Товарищи! Семен Никитич, помня обо всех нас, перед смертью попрощался с нами. Есть его прощальное письмо. Прочесть его он поручил своему другу, личному другу… (выслушал подсказку нотариуса за спиной) близкому, старому другу Борису Петровичу Баранову. – И отступил.
Старик шевельнулся на пустом пространстве, помедлил, посмотрел в спокойное мертвое лицо с натеками подле ушей и протянул руку, коснулся плеча покойника живым, отпускающим и успокаивающим жестом.
Развернул бумагу, моргнул, неловко одной рукой принялся извлекать очки из очешника и пристраивать на нос.
И наконец, прерывисто вздохнув, вперившись в строчки, спертым пресекающимся голосом произнес невыразительно:
– «Поганые суки.
Ненавижу вас всех. Ненавижу.
Подонки. Бездари. Грязь.
Чтоб вы сдохли скоро и в муках.
Воздаст Господь каждому по его делам, воздаст».
Разверзлась пропасть, весь воздух вдруг выкачали, и далекий рассудок бил на дне агонизирующей ножкой.
Кучка молодых забыла считать стотысячные гонорары усопшего, чем занимала себя последние полчаса.
Старик Баранов капнул потом на лист, выровнял дух и продолжал чуть громче:
– «Покойник здесь я. Я здесь сегодня главный. А потому будьте любезны слов моих не прерывать: даже у дикарей последняя воля покойного священна. Надеюсь, даже вашего непревзойденного хамства и легендарной подлости не хватит на то, чтобы сейчас заткнуть мне рот. Хотя вам не привыкать затыкать рты покойникам, да и вкладывать им, теперь уж абсолютно беззащитным, ваши подлые и лживые слова. Но посмотрите друг другу в глаза, коллеги: кто же еще скажет вам правду вслух?»
Возникло краткое напряжение неестественности: простое желание переглянуться с соседом противоречило неуместности следовать глумливой указке.
– «Как не хотелось продаваться, коллеги мои по грязи и писательству. Как не хотелось писать дерьмо и ложь, чтобы печататься и быть писателем. Как не хотелось молчать и голосовать за преступную и явную всем ложь на ваших замечательных собраниях. Как не хотелось выть в унисон, да не с волками – с гиенами, пожирающими падаль. Как не хотелось соглашаться с тем, что бездарное – якобы талантливо, а талантливое и честное – ошибочно и преступно.
Да – я играл в ваши игры. Потому что тоже не лишен тщеславия и честолюбия, и хотел писать и быть писателем, хотел известности, денег и положения, потому что были у меня и ум, и силы, и энергия, и Богом данный талант – был, был! и я видел, что могу писать много лучше, чем бездарные и спесивые бонзы вашего вонючего литературного ведомства, раздувшиеся, как гигантские клопы, в злой надменности своего величия. Величия чиновников, сосущих соки собственного народа и душащих всех, кто талантлив и непохож.
Ненавижу этих хищных динозавров соцреализма, на уровне своего ящерного мозга обслуживающих последние постановления партии – в любом виде, в любой форме, когда постановления эти издавались бандитской шайкой, тупыми карьеристами, ворами и растлителями.
Что за гениальная мысль – создать Союз писателей! С единым уставом и единым руководством. Штатных воспевателей государственной машины. А еще гениальнее – дома творчества. Вот тебе комната, стол, кровать, горшок, четырежды в день кормят по расписанию, в обед продают водочку, а вечером крутят кино. Гениально! Странно только, что не ходят строем и не поют утром и перед сном Гимн Советского Союза.
Из гроба плюю я на ваш Союз, на ваше правление во главе с мерзавцем товарищем Маркиным, на ваш устав, на ваши гадские спецкормушки и спецсанатории!»