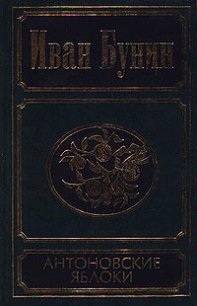Манифесты русского идеализма - Аскольдов Сергей Алексеевич (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Другой ряд статей, заключенный главным образом в двух сборниках — Études d’histoire religieuse и Nouvelles Études d’histoire religieuse, носит совсем другой характер: они говорят о людях и делах веры, в них сказывается то глубокое понимание религии, каким всегда отличался Ренан, здесь перед такими образами, как Франциск Ассизский, он в горячих, прекрасных словах выражает свое преклонение перед верою «малых сих», которые в своей простой, безыскусственной вере не думают о теоретических, безусловных подтверждениях того, что дает смысл и красоту их жизни. Его, человека науки, который знает, что всякое утверждение верно лишь до известной степени, умиляет эта громадная, не знающая пределов и сомнений, вера, эта простота.
Дополнением к сборникам статей служат том воспоминаний Souvenirs d’enfance et de jeunesse, где Ренан рассказывает нам, как сложились его характер и его убеждения до того времени, как он порвал свою связь с Церковью, и два тома писем: Ernest Renan — Henriette Renan. Lettres intimes — 1842–1845 — précédees de Ma soeur Henriette par Ernest Renan, переписка с сестрой, замечательным человеком, имевшим громадное влияние на Ренана, Е. Renan et M. Berthelot. Correspondance — 1847–1892, — переписка с знаменитым химиком, с которым Ренан сошелся после разрыва своего с Церковью и который был ему близок в течение всей его жизни. Письма хорошо дополняют сочинения Ренана, но не дают почти ничего нового сравнительно с ними: у Ренана, как он признает и сам, его духовное воспитание выработало большую сдержанность и отсутствие потребности тесного личного общения; он в этом отношении был чрезвычайно близок к идеальному типу католического священника — полон дружеских чувств и любви ко всем, без личной, тесной близости к кому бы то ни было.
Задача, которой Ренан посвятил свою научную деятельность и всю жизнь, была очень трудная, и нельзя сказать, чтобы и теперь, более полвека после того, как началась его работа, мы особенно далеко ушли на пути признания за человеком права строить свое миросозерцание согласно его убеждениям: желание равнять, подводить под определенные общие формулы, догмы глубоко вкоренилось еще в современном человеке и, если не сжигают уже еретиков на кострах, то, начиная с тюрьмы и кончая пренебрежительно-отрицательным отношениям окружающих, нет тех притеснений, которым не мог бы подвергнуться человек, решившийся идти своим путем к вере и истине так, как он чувствует и понимает их.
Основным препятствием к уничтожению этого тяжелого положения, тормозящего движение вперед человечества, как совершенно правильно сознавал Ренан, является то обстоятельство, что человек по преимуществу склонен упорно отстаивать исключительность своих истин, которые ему кажутся абсолютными, — они настолько владеют им, что у него не остается ни чувств, ни мыслей для тех истин, которые кажутся в свою очередь абсолютными другим. В одной из речей своих [489] Ренан, говоря о Спинозе, проклятом его убежденными единоверцами за самостоятельное искание истины, приводит рассказ о том, как еще в день смерти великий мыслитель беседовал со своими хозяевами о церковной проповеди, которую они слышали в тот день, хвалил проповедь и советовал им следовать наставлениям их пастыря. В этих нескольких строках наглядно поставлен весь вопрос: узость мировоззрения и нетерпимость к свободе мысли с одной стороны, широта взгляда, уважение и внимание к вере, которую не разделяешь, с другой. Людям часто кажется, что, уделяя внимание и особенно сочувствие и понимание взглядам, с верностью которых они не согласны, они принижают и оскорбляют свои собственные верования; рассуждение их очень простое: они обладают истиной, т. е. тем, что вполне верно, с исключением всего другого, что с ним несогласно, следовательно, все другое, как неверное, для них не существует. При этом у них исчезает даже желание самостоятельной проверки этого чужого.
Но как побороть подобное настроение, как убедить людей, что можно воздавать должное «абсолютным истинам» других, не колебля свои собственные? Ответ на это у Ренана определенный — знанием, наукою. Она одна способна дать человеку необходимую ему широту. Правда, переход к ней труден: «Кто, предавшись искренно науке, не проклял дня, в который он родился для мысли, и не пожалел о какой-нибудь дорогой иллюзии? Что касается меня, то признаюсь, что пожалел о многом; были дни, когда я жалел о том, что не покаюсь более сном тех, кто нищи духом, когда я возмутился бы против свободного исследования и рационализма, если бы можно было возмущаться против неизбежного. Первое чувство того, кто переходит от непосредственной веры к свободному исследованию, — сожаление и почти даже проклятие той непреодолимой силы, которая, раз захватив человека, заставляет его пройти все переходы своего неизбежного шествия, до конца, где останавливаешься, чтобы плакать» [490]. Но это не конец, — говорит Ренан, — и лучшим доказательством того, что этот кажущийся конец только начало чего-то другого, нового, именно и служат эти жалобы, это смятение ищущей истину души: скептики XVIII века разрушали с радостью и не чувствовали потребности ни в какой новой вере, их занимало только самое дело разрушения и сознание живой силы, которая была в них [491].
То новое, что строится на почве, подготовленной наукою, уже значительно разнится от прежнего: во-первых, оно в большой мере личное, а затем оно гораздо более широкое. Оно настолько широко и свободно, что его называют безразличием: «Из этого смрадного источника безразличия истекает бессмысленное и ошибочное положение, или, вернее, бред, что надлежит укрепить и обеспечить за всеми свободу совести. Уготовляют путь этому заразительному заблуждению свободою мнений, полной и безграничной, которая на беду церковной и гражданской общины широко распространяется, так как многие с величайшим бесстыдством повторяют, что от свободы мнений отчасти выигрывает и вера. “Но какая смерть хуже для души, чем свобода заблуждения?” — говорил Августин. Истинно, когда снята всякая узда, удерживавшая людей на стезе правды, природа их, склонная ко злу, низвергается в пропасть» [492]. Так громит свободу совести энциклика папы Григория XVI, осудившая страстное искание истины горячо верующим Ламеннэ; определенно и ясно говорят папские слова, почему не должно быть этой свободы, потому что природа самих людей склонна ко злу, ipsorum natura ad malum inclinata. Но наука не знает об этой склонности ко злу человека, она видит, напротив, то, что во все времена есть люди, которых считают злыми, и есть люди, которых считают хорошими; она видит, что человек всегда был способен к тому, что он называет совершенствованием; она видела и видит, что он стремился и стремится расширить кругозор ума и сердца, и что преграды, которые стремились ставить ему на этом пути, падали и разрушались. Она видела и видит, что те, кто отрекались от истин общепризнанных, оставались часто и остаются такими же, по признанию всех людей, нравственными, как и те, кто следовал этим истинам, а часто даже более.
И вот потому наука и не может принять обычных возражений против свободы совести: она не делает человека безразличным, она не делает его безнравственным. Она не мешает человеческому стремлению к ответам на мучащие его вопросы, но переносит теперь эти ответы в область личную, лишает их общего, обязательного значения.
Ренан дает нам образчик подобной попытки в очерке Examen de conscience philosophique [493]. «Первая обязанность искреннего человека не влиять на свои мнения, предоставить действительности отразиться в нем, как в камер-обскуре фотографа и присутствовать в качестве зрителя на сражениях, которые происходят внутри его, в глубине его сознания между его мыслями. Не надо вмешиваться в эту самопроизвольную работу; мы должны остаться в бездействии перед внутренними изменениями нашей умственной сетчатки. Не от того, что результат этой бессознательной эволюции был бы нам безразличен и не влек бы за собою важных последствий, но потому, что мы не можем иметь желаний, когда говорит рассудок…» [494] И вот разум его говорит, пользуясь всем, что ему может дать наука, и перед нами воздвигается стройное здание целого миросозерцания, где Бог представляется в процессе «становления», вырабатываясь постепенно из взаимодействия единичных сознаний в мировое сознание: «Мир, управляемый ныне сознанием слепым или бессильным, некогда, быть может, станет управляться познанием более осмысленным. Всяческая несправедливость будет исправлена тогда, отерта всякая слеза» [495]. Можно соглашаться или не соглашаться с этим миросозерцанием, но нельзя не признать в нем всех данных лично-религиозного миросозерцания, намеки на которое или же довольно близкие к которому построения разбросаны по различным трудам Ренана. Оно как бы является доказательством того, что терпимость, соединенная с самым широким пониманием чужих мыслей и чувств и кажущейся, вследствие чрезвычайной широты, переменчивостью, не делает искренно мыслящего человека бесплодным в религиозном отношении.