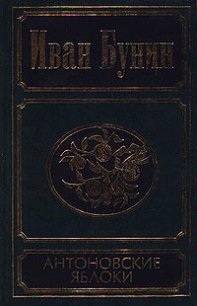Манифесты русского идеализма - Аскольдов Сергей Алексеевич (лучшие книги без регистрации txt) 📗
То же внутреннее противоречие сказалось и в попытке Конта применить начала позитивной философии к обществоведению. При изучении человеческой жизни, которую он хотел без остатка объяснить действием механических процессов, Конт натолкнулся на человеческое сознание. Напрасно пытаясь построить биологическую психологию, он, конечно, не мог дать и социальной «физики». Выше было уже указано, как Конт, прикрываясь френологическими терминами, в сущности орудовал психологическими понятиями и как широко, а в частных случаях и довольно удачно, он применял их к объяснению явлений социальной жизни; тем самым, однако, «социальная физика» превращалась в особую науку, отличную от наук физических.
Если бы Конт сознательно пользовался теми гносеологическими и психологическими предпосылками, которые сами собой проникли в его философию, он, вероятно, легко понял бы смысл такого превращения; но он не выяснил ни оснований своих скрытых допущений, ни того, в какой мере они должны и могут быть применены к построению социологии; поэтому и собственно социологические его положения вовсе не обоснованы, да и не подвергнуты критической оценке. И действительно, Конту не удалось ни прочно установить значение и систему своих социологических принципов, ни точно формулировать законы социологии: постепенно углубляясь в созерцание совокупности истории человечества и все более подчиняя науку морали, он все чаще рассуждал главным образом об одном только «коллективном организме», как единичном и индивидуальном факте; но и тут обнаружились те же колебания мысли, зависевшие от различного понимания им принципов морали.
Итак, пример Конта может служить предостережением всякому, кто пожелал бы приступить к построению науки об обществе, не выяснив себе ее оснований. Конту, разумеется, нельзя было обойтись без них: произвольно пользуясь предварительно неустановленными им понятиями, он лишил себя возможности, однако, соблюсти стройность и последовательность в ходе своих мыслей и не уберег воздвигнутого им здания от шаткости, благодаря которой в состав его попали элементы не только совершенно чуждые истинно положительному знанию, но и противоречащие самому «позитивизму».
Сергей Ольденбург
Ренан как поборник свободы мысли
Комментарии
Чем чаще приходится сталкиваться и в пределах научного миросозерцания с проявлением догматизма и нетерпимости, тем более мы научаемся ценить истинное свободомыслие, соответствующее критическому и прогрессивному духу науки. В предлагаемом очерке мы и хотим вспомнить об одном из наиболее видных поборников этого свободомыслия. Тот догматизм, с которым боролся Ренан, не может считаться вполне отжившим. Для того чтобы от него освободиться, надо иметь большую терпимость и глубокое убеждение в «бесконечном разнообразии задач, которое нам представляет вселенная». В том и другом отношении Ренан может явиться и для нашего времени поучительным образцом. Научный дух, который он защищал, очень мало напоминает научный дух отживающего свое время позитивизма: ни стремления вытеснить при помощи односторонне понятой науки другие проявления духовной жизни, ни узкой ограниченности кругозора, обращенного к будущему, мы не найдем у Ренана. И этим он, на наш взгляд, особенно ценен, а потому и важно вспомнить о нем, как представителе истинной научности, теперь, когда новая волна философского критицизма, отстаивая законное разнообразие задач и проявлений человеческого духа, очищает от посторонних придатков и самую идею науки.
25 февраля 1848 года молодой бретонец пробирался через баррикады на лекцию в Collège de France. Лекций в тот день не читали, потому что аудитории были полны солдат, стоявших там караулом. Лишенный привычных занятий, юноша поневоле задумался над разительным противоречием между его образом жизни и тем, что происходило кругом. И ярко и определенно стал перед ним вопрос, на то ли он направил свои силы, что действительно нужно, и нет ли в жизни таких дней, когда все другое должно быть оставлено и когда одна непосредственная жизнь, с требованиями именно данной минуты, должна исключительно и всецело владеть действиями человека?
От решения этого вопроса зависела вся жизнь юноши. Воспитанник священников, он привык строго следить за собой и отдавать себе отчет в каждой мысли; поэтому и теперь он, не колеблясь, поставил себе вопрос, обсудил его и ответил: я служу истине, тому самому большому и важному, с чем связаны судьбы человечества и каждой отдельной личности, и служение этому вечному не может быть прервано никакими временными переменами окружающей меня жизни, ибо нет ничего более важного в жизни, как искание истины. И если мы, люди науки, поколеблемся среди общего колебания и волнения, то восторжествуют те, которые хотят остановить ход человеческого развития. Неустанно и непреклонно должны мы идти вперед, потому что каждая наша остановка есть остановка или, может быть, даже шаг назад для человечества. Дав себе этот ясный и твердый ответ, юноша спокойно продолжает работу «Об изучении греческого языка в средние века» и сдает свои экзамены.
Знаменитый ученый и писатель, который выработался из этого юноши, всю жизнь остался верен убеждению своей юности, что для ученого не может и не должно быть остановок в жизни, что его задача — непрестанное стремление вперед, постоянное совершенствование. Немало пришлось ему вынести упреков и порицаний за этот основной взгляд и главным образом упрек в легкомыслии и переменчивости; его стремление показать возможно большее число сторон вопросов, о которых он рассуждал, было истолковано, как отсутствие убеждений и преступная игра мыслями и чувствами людей. По принятому им раз навсегда правилу он не отвечал на все эти нападки, но в предисловии одной из своих книг высказался с полной определенностью.
«Богословский догматизм, — говорит он [481], — привел нас к столь узкому представлению об истине, что всякий, кто не выступает непогрешимым учителем, рискует вполне лишиться доверия своих читателей. Научный дух, действующий путем тончайших приближений, подходящий постепенно все ближе и ближе к истине, непрестанно изменяющий свои формулы, чтобы довести их до возможно более точного выражения, переменяющий постоянно свои точки зрения, чтобы не пренебречь ничем среди бесконечного разнообразия задач, какие представляет вселенная, мало, в общем, понимается и считается признанием бессилия и переменчивости».
Внесение этого «научного духа» в ту область, из которой он, даже в двадцатом веке, так часто изгоняется, область религии, составило задачу всей его жизни и явилось борьбой за право каждому, честно и добросовестно мыслящему, человеку думать и верить так, как он считает это верным. Полное и беспристрастное знакомство с трудами Ренана приводит к несомненному убеждению, что они не расшатали и не могли расшатать ничьих искренних верований, а только научили людей признавать и уважать чужие убеждения, как равноправные с их собственными.
Сам Ренан превосходно определил смысл всей своей деятельности: «Не только, — говорит он [482], — я никогда не имел в виду уменьшить то количество религии, какое еще осталось в мире, но целью моей во всех моих писаниях было, напротив, очистить и оживить чувство, которое может рассчитывать на сохранение владычества над людьми лишь под условием, что станет более утонченным. Религия в наши дни не может уже обособляться от душевной утонченности и от умственного развития. Я полагал, что служу религии, пытаясь перенести ее в область, куда не достигают никакие нападки, за пределы частных догматов и сверхъестественных верований. Если верования эти рушатся, то не значит еще, что должна рушиться религия, и, быть может, настанет день, когда те, кто упрекают меня, как за преступление, за то различие, которое я делаю между нетленной сущностью религии и преходящими ее формами, сочтут себя счастливыми в возможности найти убежище против грубых нападок в том, чем они пренебрегали. Я, несомненно, хочу свободы мысли, ибо истинное имеет так же свои права, как и благо, и ничего не выиграешь той робкой ложью, которая никого не обманывает и которая кончает лицемерием».