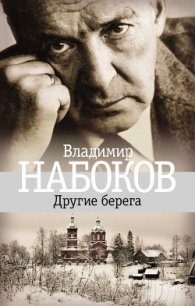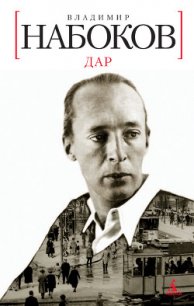Письма к Вере - Набоков Владимир (прочитать книгу .TXT) 📗
В Вере Евсеевне был определенный напор, внутренняя твердость – но была и хрупкость, особенно в молодости. Она с первого слова давала понять, что у нее свои правила. В первом письме к ней, с фермы на юге Франции, Набоков пишет: «И хороши, как светлые ночи, все твои письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов» [46]. В следующем – относящемся к стадии вечерних свиданий и прогулок по сверкающим огнями берлинским улицам: «Нет – я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется – несмотря на то, что думаешь, что мне „весело“ два дня не видеть тебя. (…) Слушай, мое счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя?» [47]
Как и Набоков, она умела восторгаться житейскими пустяками и литературными перлами; он утверждал, что из всех женщин, которых он когда-либо встречал, у нее самое лучшее, самое живое чувство юмора. Однако сам Набоков был жизнерадостен по природе, в то время как ей было свойственно впадать в уныние. Он упрашивал ее, незадолго до возвращения из американского лекционного турне: «Люблю тебя, моя душенька. Постарайся – будь веселенькой, когда возвращусь (но я люблю тебя и унылой)» [48]. Она же признавала, что склонна подвергать все критике. Например, не считала нужным удерживаться от упреков даже в адрес человека, которого любила всей душой. После изматывающей поездки в Париж для налаживания литературных связей Набоков пишет с досадой: «…но что же я буду тебе все рассказывать, если ты считаешь, что я ничего не делаю» [49]. Из Лондона, во время первой поездки с той же целью: «Душка моя, it is unfair (как я уже тебе писал) говорить о моем легкомыслии. (…) Я прошу тебя, моя любовь, не делай мне больше этих ребяческих упреков, je fais ce que je peux» [50]. Снова из Лондона, два года спустя: «Я готов к тому, что вернусь в Париж, оставив лидский замок висящим в сиреневой мути на вершок от горизонта, но если так, поверь, что будет не моя вина, – я предпринимаю все, что в моих силах и возможностях» [51]; и на следующий день: «Не пиши мне про „don’t relax“ и про „avenir“ – это только меня нервит. Впрочем, я обожаю тебя» [52].
С той же строгостью она обращалась и с другими. Если Т. X. Гекели был бульдогом при Дарвине, то Вера Евсеевна – при Набокове, пусть и в образе изящной гончей. И то, что Набоков выстроил свою жизнь на стальной основе под названием «Вера», является чертой его личности, известной далеко не всем.
В 1920-е и 1930-е он добивался все большего признания. В письмах к жене повествуется об этом, причем не только с гордостью, но и со смущением – поскольку Набоков никогда не искал ни покорного, ни льстивого одобрения. В собеседники он выбирал людей скорее независимых, чем покладистых: язвительного Ходасевича, задиристого Эдмунда Уилсона, напористую Эллендею Проффер, неугомонного Альфреда Аппеля. Известный своей непочтительностью, порой даже к Шекспиру, Пушкину и Джойсу, не говоря уже о Стендале, Достоевском, Томасе Манне, Элиоте и Фолкнере, в письмах он выражал отторжение всяческого преклонения перед общественным положением, властью, богатством или репутацией. Он редко откликался на текущие новости, но одна заметка 1926 года вызвала у него настоящий взрыв: «Приехал финляндский президент в гости к латвийскому, и по сему поводу в передовице „Слова“ восемь раз на протяженье сорока шести строк повторяется „высокие гости“, „наши высокие гости“. Вот лижут!» [53] Ненависть к чванству породила искрометно-уничижительную зарисовку критика Андре Левинсона и его трепещущего от почтительности семейства; неотразимые выпады против случайного знакомого Александра Гальперна, «не очень приятненького, осторожно двигающегося, чтобы не просыпать себя, которым он полон» [54]; порицания Кисы Куприной с ее «улыбкой „поговорим обо мне“» [55] или Вериной сестры Софьи – с гадливым упоением Набоков вспоминает, как она извивается в кольцах собственного величия. Дружбу с писателем Марком Алдановым Набоков сумел сохранить, но при этом не преминул посетовать, что тот «как будто впивает похвалу» [56].
Набоков с юношеским пылом относился к чужим комплиментам – выходя с вечера у друзей в Берлине, где вызвал общее восхищение, он от восторга даже прошелся колесом, однако, делая акробатический трюк, не потерял голову: «…опять похвалы, похвалы… мне начинает это претить: ведь дошли до того, что говорили, что я „тоньше“ Толстого. Ужасная вообще чепуха» [57]; «Чтобы потом не было неловко (как случилось с моими письмами из Парижа – когда я их перечитывал), теперь же и впредь – совершенно отказываюсь от приведения всех тех прямых и косвенных комплиментов, которые получаю» [58]. Габриэль Марсель «хочет, чтобы я повторил conférence (которую он перехваливает)» [59]. Он мог критически отзываться о своих предыдущих и даже текущих работах («Не знаю, как сегодня сойдет моя „Mlle“ – боюсь, что длинно и скучно» [60]; «…как мне наплевать на эти мои французские испражнения!» [61]). Те, кто путают Набокова с его тщеславными персонажами – Германном, Гумбертом, Кинботом и Ваном Вином, – проявляют недомыслие. Тщеславие для него мишень, а не способ существования.
Набокову случалось проявлять несдержанность и досаду, однако в письмах он по большей части предстает человеком, который судит о других с душевной щедростью и уважением: «А он со своими выдающимися глазами, которые точно вылезают из глазниц, оттого что сдавили его (впалые до болезненности) щеки, – милейший» [62]; «…я окружен сотнями милейших людей» [63]; «Он оказался большой упругой душкой» [64]. В парижском метро: «Контролера я как-то спросил, что это такое так хорошо блестит в составе каменных ступеней, – блестки, вроде как игра кварца в граните, и тогда он с необычайной охотой, – делая мне les honneurs du métro, так сказать, – принялся мне объяснять и показывал, куда нужно стать и как смотреть, чтобы сполна любоваться блеском; если б я это описал, сказали бы – выдумка» [65].
Как и всякий лепидоптеролог того времени, пойманных бабочек Набоков протыкал булавкой, а потом расправлял, – в результате журналисты впоследствии называли его Vlad the Impaler (Влад, сажающий на кол, – так описывают князя Влада Дракулу). Однако в письмах к Вере, очень любившей животных (в частности, они оба перечисляли деньги в Общество борьбы с вивисекцией), снова и снова проявляется его нежность ко всяческим тварям и понимание их прелести: «Я спасаю мышей, их много на кухне. Прислуга их ловит: первый раз хотела убить, но я взял, и понес в сад, и там выпустил. С тех пор все мыши приносятся мне с фырканьем: „Das habe ich nicht gesehen“. Я уже выпустил таким образом трех или, может быть, все ту же. Она вряд ли оставалась в саду» [66]. «Душа моя, какой у них кот! Что-то совершенно потрясающее. Сиамский, темного бежевого цвета, или taupe, с шоколадными лапками (…) и дивные ясно-голубые глаза, прозрачно зеленеющие к вечеру, и задумчивая нежность походки, какая-то райская осмотрительность движений. Изумительный, священный зверь, и такой молчаливый – неизвестно, на что смотрит глазами этими, до краев налитыми сапфирной водой» [67]. «Каким легоньким и послушным кажется здешний щеночек – он вчера ушел головой в мой боковой карман и там увяз, отрыгнув немножко голубого молочка» [68].