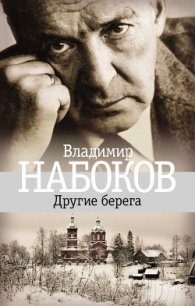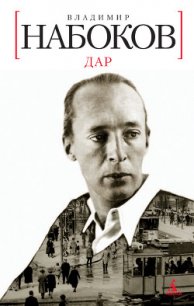Письма к Вере - Набоков Владимир (прочитать книгу .TXT) 📗
Сумбурное чтение Набокова почти непредсказуемо: он не только, как того ожидаешь, перечитывает Флобера, Пруста и Джойса, но случаются и сюрпризы: советская художественная проза (он заставляет себя с ней знакомиться), Анри Беро, Ральф Ходжсон или Арнольд Беннет – и их он читает с энтузиазмом. Еще ценнее то, что в письмах к Вере отражено, как Набоков пишет, задокументированы всплески его вдохновения. Перед нами предстают самые разнообразные жанры – стихи, пьесы, рассказы, романы, мемуары, киносценарии, переводы, – которые приходят ему в голову и исчезают в никуда, подобно блуждающим огням вокруг рощи завершенных сочинений. Притом что большая часть писем относится к раннему периоду и не может ничего сообщить о его великих англоязычных романах или даже о замечательных русских произведениях позднего периода (во время поездок в Париж и Лондон в 1930-е годы он был слишком занят налаживанием деловых связей и поиском издательских возможностей, чтобы найти время на создание чего-то нового), в письмах 1920-х годов отражена напряженная творческая работа над первым его крупным сочинением, «Трагедией господина Морна», генезис и процесс создания двух стихотворений, в том числе одного из лучших – «Комнаты». Странный замысел рассказа про комнату трансформируется в стихотворение и теперь помогает лучше его понять. Но наиболее интересен путь создания стихотворения «Тихий шум», ибо благодаря письмам мы можем проследить этот процесс от досады до победы. Набоков стал звездой первого берлинского Дня русской культуры 1925 года, а год спустя решил превзойти самого себя. В его распоряжении было всего несколько суток, он тревожился из-за того, что ничего не готово… Потом возник ритмический ряд, предшествующий появлению стихотворения, потом – отвращение к первоначальным ностальгическим клише, выплеснувшимся из ненадолго закупорившейся трубы его воображения. Затем нахлынули недавние впечатления, в том числе указание в письмах несколькими днями раньше на то, как он начал раздумывать над новым стихотворением; былые воспоминания и нынешние ощущения (например, хлюпание воды в клозете) соединились во фрагменты, ставшие вдруг строфами, – их образы все сильнее захватывают его перед засыпанием. По пробуждении он идет на дом к ученику и наконец, во время визита в квартиру к Вериной двоюродной сестре, переносит стихотворение на бумагу, выучивает наизусть, а потом с триумфом декламирует – и его раз за разом вызывают на бис.
Письма к жене Набоков писал отнюдь не для будущих читателей, что особенно отчетливо видно из посланий 1926 года, где он держит слово и подробно описывает, что ел, во что одевался, что делал. Поэтому письма к Вере Евсеевне разительно отличаются от писем к Эдмунду Уилсону [89]. В последних – сходство и несходство их литературных вкусов заставляет Набокова задействовать все силы своего мастерства. Помимо прочего, он не может не отдавать себе отчета в том, что рано или поздно переписка с Уилсоном будет опубликована. К концу 1960-х он стал, пожалуй, самым знаменитым из живущих писателей. В 1968 году Набокову прислали из Праги его письма к родителям; узнав об этом, Эндрю Филд, автор первого получившего широкую известность исследования творчества Набокова, попросил у супругов разрешения начать работу над его биографией. Проект был одобрен, и Филд, приехав в конце 1970 года в Монтрё, снял фотокопии с этих писем (при этом от него были скрыты некоторые наиболее личные пассажи), а также с нескольких писем к Вере Евсеевне, особенно за 1932 год, где говорилось о том, как Набокова принимали в русских и французских литературных кругах. Отдельные фрагменты этих писем супруги также предпочли утаить, зато Набоков раскрыл для Филда личность некоторых упомянутых в них людей. Возможно, именно перед приездом Филда Вера Евсеевна и уничтожила свои послания к мужу.
Почти все свои письма к жене Набоков написал, не предполагая, что потомки будут заглядывать ему через плечо. Однако в Таормине в апреле 1970 года, во время их последней многодневной разлуки (если не считать вынужденных пребываний в ближних больницах, которыми отмечены 1970-е годы), зная, что Филд собирается писать его биографию и увидит некоторые из его писем к ней, Набоков не мог не задуматься о том, что часть их переписки может попасть в печать. Послание из Таормины домой в Монтрё [90] великолепно сочетает в себе стиль его поздних публичных выступлений – пародию, поэзию, стремительность слога и словесную игру – и при этом отражает их с Верой необыкновенную близость. В отличие от многих предыдущих писем, где слышны тревожные отзвуки их неопределенных жизненных ситуаций, это письмо пронизано покоем, который принесли слава, достаток, наличие свободного времени и почти полвека, прожитые вместе. Но в последующих письмах из этой последней связки он, судя по всему, меньше думает о потомках, очевидно вернувшись к стилистике ежедневной корреспонденции с женой. Письма завершаются – Вера Евсеевна вот-вот должна присоединиться к мужу – своего рода предчувствием того, что это, может быть, его последняя возможность писать день за днем для одной только ее:
«Теперь жду тебя. Немножко жалко в каком-то смысле, что кончается эта (пере) писка, обнимаю и обожаю.
Буду записывать белье, а затем около девяти пойду собирать.
В.»
Письма к Вере
1. Ок. 26 июля 1923 г.
Солье-Пон, Домэн-де-Больё – Берлин
Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это – шутка, маскарадный обман… А затем… И вот есть вещи, о которых трудно говорить – сотрешь прикосновеньем слова их изумительную пыльцу… Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты…
И хороши, как светлые ночи, все твои письма – даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов. Я нашел и его, и предыдущее, по возвращенью из Marseille, где я работал в порту. Это было третьего дня – и я решил тебе не отвечать, пока ты мне не напишешь еще. Маленькая хитрость…
Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семечками. Есть крошечный русский ресторанчик, в самой грязной части Marseille. Я харчил там с русскими матросами – и никто не знал, кто я и откуда, и сам я дивился, что когда-то носил галстух и тонкие носки. Мухи кружились над пятнами борща и вина, с улицы тянуло кисловатой свежестью и гулом портовых ночей. И слушая, и глядя – я думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю названье черепных костей, бактерий, растительных соков. Странно было.
Очень тянет меня и в Африку, и в Азию: мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай. Но две вещи заставляют меня вернуться на время в Берлин: первая – то, что маме уж очень одиноко приходится, вторая… тайна – или, вернее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить… Выезжаю я 6-го, – но некоторое время пробуду в Ницце и в Париже – у человека, с которым я учился вместе в СатЬпс^е’е. Ты, вероятно, знаешь его. Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го… И если тебя не будет там, я приеду к тебе, – найду… До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь. Вот тебе стихи:
ВЕЧЕР