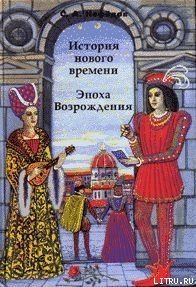Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. Том 2 - Алпатов Михаил Владимирович
Самое крупное достижение Гойя в области живописи — это его портреты. Рядом с портретным стилем Франции и Англии XVIII–XIX веков Гойя создает в портрете особое направление. Его многому научили великие испанские мастера XVI–XVII веков: от них он усвоил искусство придавать своим персонажам важный и торжественный характер. Впрочем, в людях Гойя нет силы и самообладания героев Веласкеса; это более нервные натуры, их черты более заострены и уродливы, и поэтому портреты Гойя нередко граничат с шаржем.
В его портрете Кобо де Порсель с ее черными, как вишни, глазами, с чуть вызывающей манерой держаться больше страстности и темперамента, чем во французских портретах XVIII–XIX веков. Но Гойя незнакомо также выражение здоровой силы и жизнерадостности, которым отличаются портреты английской школы. Страстность в людях Гойя служит источником разлада, широко раскрытые глаза выражают их напряженность и только подчеркивают скованность всей фигуры. Старик Байеу в портрете Гойя выглядит как неисправимый меланхолик. Артистка Фернандес выплывает из темного фона, как таинственный призрак. В многочисленных портретах в рост его возлюбленной герцогини Альбы и в других светских портретах женщины кажутся изящными, но мучительно застылыми и странно оцепенелыми, как марионетки. Даже в позднем портрете внука Мариано, выполненном в манере Давида, ребенок отличается напряженной, недетской серьезностью. Только в изображениях людей из трудового народа, вроде «Водоноски» (Будапешт), в живописи Гойя рассеивается мрак и проглядывает бодрость.
Один из самых крупных холстов Гойя — это групповой портрет Карла IV и его семьи (Прадо). Создавая его, Гойя вдохновлялся «Менинами» Веласкеса, но его модели выглядят не то как живые люди, не то как бездушные манекены: уродливая, но надменная, крючконосая, как ведьма, Мария Луиза (31), пузатый, неповоротливый король с его усеянным звездами тяжелым корпусом, на тонких ногах, с толстым, широким лицом и запавшим ртом, члены королевской семьи и придворные, которые замерли в странной оцепенелости, словно не решаясь нарушить тишину в присутствии королевской особы. Только легко положенные красные, голубые и желтые тона образуют нежную гармонию; самое яркое пятно в картине — алая одежда маленького принца — находит себе отклик в лентах придворных.
Тот ужас, который в портретах Гойя проглядывает только в глазах его моделей, целиком овладел художником, когда он отдался своему воображению и создал серию офортов «Капризы» (1794–1798). К ним примыкает и серия «Бедствия войны» (1810–1820) и его известная картина «Расстрел 1808 г.» (Прадо), созданные под непосредственным впечатлением увиденной самим художником освободительной борьбы в Испании. В Европе повсюду господствовало в те годы увлечение античностью с ее светлыми, прекрасными образами (ср. 200). Между тем Гойя возрождает старую фантастику, рисует образы чудовищ и уродов вроде тех, которые когда-то владели воображением Босха и Брейгеля (ср. 97).
Офорты Гойя нельзя свести к определенному положению, рассматривать как иллюстрации к назиданию в духе сатирических серий Хогарта. Гойя возмущается проявлениями жестокости и изуверства врагов испанского народа, глупостью монахов, слушающих проповедь попугая, легкомыслием кокоток, суеверием женщин, поклоняющихся чучелу; ему внушают ужас сцены насилия и жестокости солдат; его пугают звероподобные люди и человекоподобные звери, в которых торжествуют низкие страсти и темные влечения. Но он не в силах освободиться от своего кошмара, подняться над этим миром чудовищ, противопоставить тьме ясные, радостные образы человеческой красоты и духовного благородства. Весь этот ужас, все эти маски обладают в его глазах реальностью, владеют его воображением, душат его, как страшный сон, наполняют горьким разочарованием в людях. Ему не дано было увековечить образ победившего свободного народа; он показывает преимущественно его страдания, бедствия, терпимые им муки, вечное кровопролитие, физическое и нравственное уродство.
Возможно, что Гойя имел перед глазами сатирические картинки французской революции. Несмотря на явно антиклерикальный характер некоторых его офортов, в большинстве их едва обозначен противник, почти не назван по имени самый предмет нападок художника. Как ни один другой художник, Гойя широко использует язык намеков и иносказаний. Лаконические надписи под его офортами не разъясняют их смысла, скорее задают зрителю загадку, наводят его на размышления, и он начинает понимать философский смысл отдельных образов, лишь уловив то общее настроение, которое проходит красной нитью через все серии.
Фантастические образы, картины человеческого уродства встречаются и в более раннем искусстве. Но образы Гойя не так общепонятны, как образы, созданные народной фантазией. Они являются в значительной степени плодами вымысла художника, порождениями его личного творчества, в котором, как в фантастических рассказах Эдгара По, наряду со жгучим воображением, участвует и холодный расчет.
В офорте «На охоте за зубами» женщина подходит к повешенному и вырывает у него зуб, он же словно протягивает руку, делает гримасу и этим рождает в ней нескрываемый ужас. «Идет бука» — закутанная в белое покрывало фигура пугает детей, прижимающихся к матери. «Опыты» — это голая, ведьма, обучающая летать голого мужчину среди горшков, черепа, кошек и огромного барана. «Правда умерла» — это мертвая полуобнаженная женщина, которую обступила толпа людей, среди которых виднеется пузатый священник и монахи.
Гравюры Гойя предназначены не для длительного сосредоточенного созерцания, как гравюры Рембрандта. Вся сила их в мгновенности производимого ими впечатления. Потребность в нем определила своеобразие графического языка Гойя. Ему незнакомо светотеневое богатство и глубина полутеней в графике Рембрандта. Для быстроты выполнения он сочетает в своих офортах рисунок иглой с техникой акватинты, благодаря которой фон оказывается покрытым в ровный черный или серый тон. Это позволяло ему работать в графике, как и в живописи, обобщенными, сразу бросающимися в глаза пятнами. В офорте «Какое мужество!» мы видим пушку и на фоне ее контрастно выступающую стройную женскую фигуру. Этого для Гойя достаточно, чтобы обрисовать героизм испанских женщин в освободительной войне.
В офорте «Не это» (210) на темном фоне деревьев резко вырисовывается повешенный, перед ним, подбоченившись, сидит военный, словно допрашивая его; вдали слабо намечены очертания других жертв. Калло, как человек XVII века, смотрит на войну издали, охватывая ее со всеми ее бедствиями взглядом летописца (ср. стр. 227). Наоборот, Гойя как человек нового времени видит драматизм всеобщего бедствия в образах отдельных людей, и потому предельно приближает зрителя к страшному диалогу двух врагов. Несмотря на упрощенность графических приемов Гойя, именно эта упрощенность сообщает его листам огромную образную силу. Повешенный словно стоит, руки по швам, перед своим мучителем, и эта двусмысленность придает особенную напряженность их диалогу. Из всех современников Гойя только один Давид в своем «Марате» (ср. 199) достигает той силы драматизма, которая была достоянием замечательного испанского мастера.
Романтизм как художественное направление ясно обозначился в Германии еще задолго до того, как французские писатели и художники выступили под его стягом. Представителями раннего романтизма в немецкой литературе были в конце XVIII века Новалис, братья Шлегель. К ним примыкали и художники. Романтики много размышляли об искусстве и обнаруживали в этих вопросах большую глубину.
Выясняя общие пути развития всего западноевропейского искусства, они сумели определить его историческое место в мировой культуре. Личность художника, говорили они, полнее выражает себя в искусстве нового времени, чем это было в древности. Современный человек не в силах отдаваться своему созданию так же самозабвенно, как древние; он всегда осознает себя творцом, играющим своим воображением, и это радует его чувством неограниченной свободы. Они призывали к глубокому, сосредоточенному постижению произведений искусства. «Мы думаем все глубже в них проникнуть, — писал Вакенродер (1797), — они же вновь возбуждают наши чувства, и нет такого дна, где душа их совершенно бы исчерпала». В своем стремлении сообщить искусству философскую глубину немецкие романтики видели в музыке первооснову искусств. Их тяготило положение искусства и художников в современном буржуазном обществе, и им казалась заманчивой судьба средневековых художников-ремесленников. Вакенродер рассказывает предание о Пьеро ди Козимо, который в поисках высокого искусства решился покинуть свой дом.