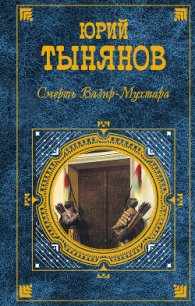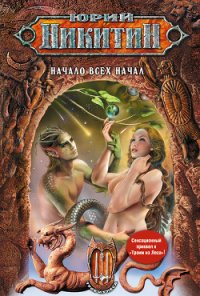Пушкин - Тынянов Юрий Николаевич (чтение книг .txt) 📗
Однажды стихи ему не давались; он написал первый куплет, стал зачеркивать слова, потом зачеркнул все, потерял терпение, рассердился, скомкал несчастные клочки и бросил в угол. Это было в зале. Олося Илличевский, поэт, подобрал, разгладил листок и дописал стихи.
Кошанский попросил его прочесть ему какое?либо стихотворение, на выбор. Он уже давно, порывшись в лексиконе, прозвал сурового критика Аристархом и Зоилом. Он не любил читать стихи Зоилу. Все же он прочел те же "Измены". Читал он, еще помня корсаковское пенье, и Кошанский в удивлении смотрел на него. Пушкин читал, подвывая, ничего логически не поясняя, повышая и понижая голос на цезурах. Впрочем, и читать сии короткие, прыгающие или, лучше сказать, пляшущие строки, состоявшие почти единственно из рифм, было, как полагал Аристарх, невозможно иначе. Стихи трактовали женские измены и были скорее всего род любовной песенки или модного пляса – вальса. Ни важности Державина и его простодушия, ни изящества, пределом коего был Карамзин, – одна развязность и заразительность: все начали так вот подпевать, подвывать, и стихотворцев нынче развелось тьма. Такие стихи были доступны всем, как и модный пляс – вальс. Живость их была неуместна. И откуда сей отрок мог знать женские измены?
Кошанский с любопытством на него смотрел. Все с чужого голоса, заемная страсть. Он попросил повторить чтение. Подперши лоб рукою, закрыв припухшие глаза и надув губы, Аристарх вслушивался в стихи юнца. Он просил почитать стихи, как просил Илличевского и даже Яковлева, – дабы сделать замечания, которые могли бы просветить, быть полезны и проч.
Но он молчал. Прищурясь, он посмотрел на своего ученика и в первый раз заметил его наружность: глаза были живые, быстрые, лицо весьма осмысленно и, кажется, лукаво. Он хотел было сказать, что трехстопный ямб не следовало избирать мерою, потому что он дребезжит, как бубенцы лошадей, загнанных ямщиком, – он давно уже приготовил это сравнение – и вдруг не сказал. Поправив тугой воротник, он еще раз посмотрел на отрока, и Александру взгляд этот показался грустным, сам Аристарх словно побледнел, поник. Так ничего и не сказав чтецу, он вдруг тяжело вздохнул и медленно, волоча ноги, пошел по залу. Он был трезв и угрюм. Это была новая школа поэтов, которую он не признавал и про себя прозвал эротико?вкусо?музыкально?верхолетной. Все они писали песни, и он не мог не сознаться, что по сравнению с их стихами все остальные стали казаться жестки и тяжеловаты. Музикусы тотчас клали их песенки на музыку, прочие распевали, а там приходила слава, секрета коей он не мог постигнуть. Батюшков ставил его в тупик: бросать в публику одно?два стихотворения, вовсе не безупречных, возбуждать шум, удивление, потом скрываться на год и на два – такова была слава, сорванная даром и на лету. У них был вкус – слово, ожесточавшее Аристарха. Он сначала так уподобил этот загадочный вкус: вкус в стихах то же, что слух в музыке, и даже записал это; однажды он услышал, как глупец Калинич, любитель гитары, говорил Чирикову, что первая ступень слуха – слышать, как другой фальшивит, а вторая – самому не фальшивить, и что это гораздо труднее, чем других критиковать. Критиков много развелось. Эти нападки глупца на критиков его чем?то раздосадовали, и он зачеркнул свое определение. Это была какая?то новая соразмерность или стройность, о которой нынче много толковали, уподобляя стихотворения зданиям.
Эти строки батюшковские поражали его; грамматический смысл их был просто неясен: кто кого здесь сильней? Сердце, память, рассудок? А между тем они действовали на женщин неизъяснимо. Это?то, должно быть, и был вкус, такова и была слава. А трехстопные ямбы, похожие на все эти новейшие развинченные походки? Их можно было наделать пропасть, и всегда они нравились. У Батюшкова были стихи, в которых сряду рифмовало по три строки вместо обычных двух. Для чего не четыре? Это была болтовня. Между тем сей поэт мог создавать и сильные строки.
Он пытался объяснить Пушкину, в котором видна была любовь к поэзии и приметно дарованье, в чем действие этих строк, но не умел. Пушкин не слушал; может быть, он и сам, без него, об этом догадывался. Внезапная слава этого юнца была оскорбительна и ничем не заслужена. Женщины, поистине как мотыльки, устремлялись на огоньки модных стихотворцев, будь то мальчишки. Бакунина спрашивала его о Пушкине и Илличевском. Эти отрочата уже пользовались вниманием слабого пола. Граф Толстой как?то при встрече сказал, что он хотел бы слышать романс, который сочинили лицейские. Дама, которой Кошанский втайне готовил небольшую оду, дожидалась только какого?либо семейного праздника, чтобы пригласить "поэтов", и спросила его о лицейских слагателях стихов. Это было невыносимо.
Слава доставалась не тем, кто искусился в строгих правилах письма и умудрен опытом, она, как неверная прелестница, дожидалась любого встречного мальчишки. Более того, она как бы искала, кому поднести титло поэта. Чем, например, Илличевский, правильно и складно изъясняющий свои мысли и чувства в стихах, хуже Пушкина? Но нужно было произойти случайности: другой юнец положил на музыку, третий спел – и автор "Измен" выдвинулся. Между тем поведение его заносчивое, судит свысока, посмеивается над Гаврилом Державиным, и все в силу вкуса, как будто кто вручил ему сей вкус как власть. Дошло до него и о какой?то насмешливой адской поэме, которую сочинил юнец, но он заставил себя не заниматься сею мыслью: сделался бы шум, юнца, быть может, изгнали бы и на самый лицей легла бы тень подозрения. Это было ниже его как поэта и литератора.
Мартынов, директор департамента, справлялся у него, Кошанского, о юнце – способен ли к важному стихосложению. Он, разумеется, ответил пожатием плеч. Директор, впрочем, и сам не одобрял верхолетства. А поди ж ты – и он подпадал под эту моду. С удивлением Кошанский чувствовал, что и на него самого начинала действовать сия легкость, развязность, воздушность, механическая подвижность, общежительность, болтливость нового стиха. Новый стих ему нравился, и он негодовал.
И он отправился к директору Малиновскому, который был болен и которому по всему осталось недолго жить. Тайное честолюбие, в котором он сам боялся себе признаться, снедало его: он сам надеялся быть директором.
Директор Малиновский не сознавался в том, что болен. Париж был взят, новая эпоха начиналась. Он хотел устроить праздник в лицее.
Он оделся в свой форменный сертук и вышел. Короткое пространство от своего дома до лицея, царскосельскую улочку, он перешел шаг за шагом, преодолевая пространство, как некогда учение. Дядька Леонтий дожидался на лестнице и проводил директора до зала. Бледный, тощий, с горящими глазами, задыхаясь, директор, как привидение, обошел все здание, и лицейские разбежались при виде его. Он заметил, что холодно, и отдал приказание исправно топить печи. Озноб бил его. Потом подписал прошение о ремонте.
После многократных унижений от министра, делавшего ему выговоры, он предпочитал заботы хозяйственные. Подписав прошение, он устал, и его проводили домой. А он пришел распорядиться о празднике, торжестве, от которого ждал многого. Он хотел положить новое начало всей лицейской жизни и приготовился сказать большую речь воспитанникам, наставникам и гостям на будущем празднике Он хотел сказать речь о победе. Теперь все говорили об этом, но он хотел сказать по?другому.
"Враги думают, что страх – главное побуждение россиянина, – приготовился он сказать, – бесстрашные его дела доказывают тому противное". Дальше о достоинстве русского человека, упорно отрицаемом Европою, себялюбивою и мелочной, и о том, что в будущем воспитанники должны, каждый в своей области, доказать его, как ныне доказали русские войска на поле брани. Он не сомневался, что после того, как народ русский завоевал славу, рабство отменится. Проходя по залу, он заметил, что лицейские смотрят на него с каким?то испугом, и забыл, какие именно приготовления к празднику хотел начать первыми.