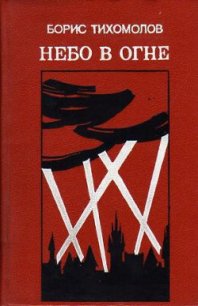На дне блокады и войны - Михайлов Борис Борисович (книга жизни txt) 📗
Пыль рассеялась. Все живы.
Минуты через две из кукурузы потянулись солдаты: один с перебитой рукой, затем принесли на руках кричащего во все горло автоматчика:
— Гады! Фашисты! Бьют какими-то фугасами прямо сверху и будто сзади!
Я спускаюсь. Автоматчика кладем на живот. Гимнастерка в клочьях. Я ее разрываю. Спина — сплошное месиво из ошметков кожи и мяса. Осколки наших мин острыми заусенцами впились в спину, застряли в позвоночнике. Я пытаюсь перевязать, но каждый раз, когда лезу ему под живот, чтобы протянуть бинт, он орет благим матом. Подошел майор. Мы встретились глазами… День продолжался.
Майор с автоматчиками ушли. Пехотинцы — те, кто привел раненых, не очень-то хотели из укрытия снова лезть в кукурузу. Появился командир стрелковой роты, новенький, мне не знакомый. Договорились, что он выведет всех солдат из кукурузы, а я ее как следует прочешу минами. Грешнов почему-то стал «шелковым». Потом я узнал, что на позицию пришел политрук.
Так все и было. После нашего беглого огня рота без потерь ушла вперед. Я перенес огонь на кирпичный завод, в карьерах и цехах которого скопились немцы. Получив возможность маневра, туда же начала бить вся артиллерия. Пехота залегла перед заводом, готовясь к атаке. Вечер… Ночь… Я ушел к своим поглотать мамалыги. До завода, о котором будет рассказ, чуть больше километра, и Грешнов решил позиции не менять. С моего НП цеха и карьерчики завода просматривались хорошо. Всю ночь по черепичной крыше стучал дождь. Утром телефониста, спавшего с привязанными к ушам наушниками, разбудил Грешнов: старшина где-то обнаружил склад итальянских мин, которые, говорят, годятся для наших минометов. Действительно, итальянские, как и немецкие мины такого же класса, как и наши, имеют калибр 81 мм (наш батальонный миномет — 82 мм). Если дать побольше заряд, то итальянская мина из нашего миномета полетит. Внешне мины похожи, только у итальянских красный стабилизатор.
Чуть забрезжило: «Огонь!» Вся наша артиллерия часа полтора била по заводу. Вскоре винтовочная, автоматная и пулеметная стрельбы уже были слышны на заводе — пехота пошла! Командиру батальона сообщили — завод наш!
— Меняй НП на завод! — и я с командиром отделения связи, взяв двух телефонистов с катушками, потянул связь.
Завод-то он, может быть, и наш, но очковтирательство возникло в нашей стране задолго до «застоя».
На месте все было не так просто.
Мы, пройдя пойменный кустарник, вышли на его край. Здесь редкой цепью лежали пехотинцы. Впереди проглядывали старые заболоченные карьеры, откуда брали глину. За ними длинные навесы со стеллажами для сушки кирпичей. Дальше, чуть справа, из- за стеллажей большое здание завода с мансардой.
— Кто там?
— Будто бы наши.
— А без «будто бы»?
— Сходи, посмотри.
— Почему вы не идете? — спрашиваю я у лежащего рядом сержанта (офицеров нет — выбиты).
— Там справа немецкий пулемет бьет, наши пошли слева в обход.
Прикидываю: мансарда дома — НП лучше не придумаешь, тянуть связь в обход всех карьеров — не хватит провода, а здесь всего двадцать метров болота… На том берегу из-за стеллажа появляется солдат. Я кричу:
— Дом наш?
— Прыйдзи, поглядзи!
Будь я один, то вряд ли бы полез через болото под дулом немецкого пулемета, а здесь… Кругом солдаты… Я офицер… Скольких пацанов-офицеров, «ванек-взводных», да и постарше чином, солдатские подначки свели в могилу!.. Душа уходит в пятки, прижимаюсь к земле, вскакиваю и, сломя голову, бегу, подымая фонтаны брызг. Каждая клеточка на правом боку напряглась и ждет боли, удара, но… последний прыжок, и я в кустах на том берегу. Пронесло! Смотрю назад. Иванченко, тот самый, о котором я упоминал, рассказывая о вступлении в Болгарию, как-то обреченно и нерешительно пристраивает на спину катушку, раскручивает метров двадцать провода и моим путем лезет через болото. Мы все, затаив дыхание, следим за ним. Вот он на середине болота, идет дальше, еще немного… Пулеметная очередь! Иванченко падает лицом вперед, дергается, пытается привстать… «Лежи, лежи, твою мать! Не шевелись!» Но он, охваченный паническим страхом, вдруг вскакивает в полный рост, сбрасывает ненавистную катушку и бросается назад… Очередь!.. Конец! Мы удрученно и растерянно сидим в кустах. Потом я кричу нашим, чтобы шли в обход (как будто кто-нибудь еще полезет в болото!), а сам ползком между сушилками выбираюсь на задний крытый двор завода. Подходит командир отделения с солдатом. Мы втроем находим веревку, привязываем к ней какую-то железяку: получается что-то вроде «кошки», и ползем в кусты к болоту. Здесь надо быть осторожным, чтобы не попасться на мушку немецкого пулемета. Но на другом берегу наши пехотинцы притащили «максима» и прикрывают нас огнем. Вторая, третья попытка… Наконец, мы зацепили катушку и вытаскиваем ее на берег. Немцы злобствуют, но ничего поделать не могут: провод стальной, и перебить его пулей практически невозможно. Теперь — залезть на крышу! Как? Вход в здание завода с торца, обращенного к немцам. Правда, между домами, где сидят немцы, и заводом — невысокий побитый заборчик. Я ползу вдоль него, неожиданно вскакиваю и бросаюсь в дверь. Зик… зик… зик… пули проскакивают мимо головы и громко ударяются в кирпичную стену… Пронесло! На нижнем этаже здания большое помещение с земляным полом. Окон нет. Я привыкаю к полутьме. В углу сидит знакомый младший лейтенант— командир взвода, рядом— несколько солдат. Все раненые, но уходить не хотят — будут ждать темноты. Я отдаю им свои перевязочные пакеты и лезу по внутренней лестнице наверх. Там на чердаке две жилые комнаты с окнами на город. Как раз то, что надо! Протянули туда провод, подключили телефон: «Связь есть!» Я лежу на полу на матрасе и в просвет между подоконником и белой занавеской, как на ладони, вижу весь район. Передо мной в ста пятидесяти метрах дома, где засели немецкие снайперы, дальше тонут в тяжелой осенней зелени черепично-красные крыши опрятных окраинных усадеб. За ними в километре каменное трех-, а может быть, четырехэтажное здание.
— Одна мина, огонь!
Пристрелка итальянскими минами идет с трудом, но мин много и время есть. Когда мина попадает в черепицу, над домом подымается красивый фонтан брызг. Это меня увлекает. Я выстраиваю «веер», проверяю, даю «беглый!» по переднему краю домов. Но в общем-то стрельба бесполезна, потому что наших невредимых пехотинцев осталось человек пять-шесть, и наступать некому…
Мы сидим втроем: командир отделения связи — молодой симпатичный молдаванин Никулеску, я и телефонист Рухану. Никулеску из Измаила. На очень ломаном русском языке, точнее, украинском, он любопытствует о жизни в СССР: как это власть может принадлежать народу? А может ли он стать офицером? В голове и на словах он уже давно вынашивает план: после войны обязательно поступить в офицерское училище. Он будто примеряет на себя офицерский китель, улыбается… Рухану откуда-то приносит кукурузу, повидло… проглянуло солнце… Я развалился на матрасе и грызу уже крепкие кукурузные початки… Жить можно!
Дверь в комнату тихо приоткрывается, и на пороге появляется паренек лет семи-восьми. Он нерешительно подходит ко мне, к окну и быстро-быстро непонятно лопочет, показывая в сторону серого дома: «…немочка пушка…немочка пушка…». Постепенно я начиная разбираться в отдельных славянских корнях слов: там, сразу за кварталом деревенских домов, стрельбой по которым я только что забавлялся, на пустыре стоит немецкая батарея. Я бросаю еду и азартно начинаю пристрелку…
Когда кто-нибудь входит или выходит из комнаты, занавеска на окне колышется, мне это не нравится — демаскировка, увидит снайпер! Я придерживаю ее рукой и плотно прижавшись щекой к косяку оконного проема, слежу за разрывами…
…Яркая вспышка!.. Треск! За ними— боль… и я падаю на тюфяк… хватаюсь за левый глаз… Нестерпимая боль в глазу, и первая мысль — нет глаза!! Подскакивает Никулеску. У него есть перевязочные пакеты. Вторым глазом я вижу, как он со страхом смотрит на мое окровавленное лицо, руки. Глаз не видит. Он весь залит кровью. Мы вдвоем отползаем к стенке, накладываем марлевую подушечку и неумело заматываем бинтом голову. Я слышу, как телефонист передает: «Лейтенанта сильно ранило в голову». С батареи вероятно спрашивают: