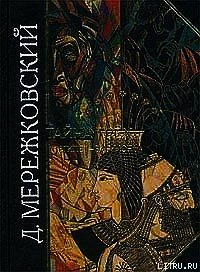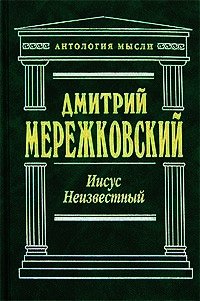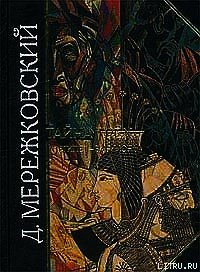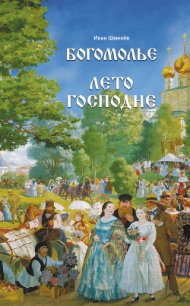Религия - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги онлайн читать бесплатно .TXT) 📗
«Что значит эта способность русского человека по преимуществу лелеять в душе своей два самые противоположные идеала — широкость ли это русской природы, или просто подлость?» — как будто, задавая этот вопрос, Достоевский сам колебался и, наконец, останавливался, по крайней мере, в своем сознании, на «слишком благоразумной» середине между русским «Ксерксом» и русским Христом, между историческим венцом Навуходоносора и мистическим Белым Клобуком православия. Как будто иногда пугался он своего собственного лица, которое казалось ему чересчур новым и мятежным — даже прямо «демоническим» и уж, во всяком случае, недостаточно «народным», простонародным, византийски-православным; и это истинное лицо свое прятал под масками всех своих раздвоенных героев — в последний раз в «Великом Инквизиторе» — под самою прозрачною и все-таки самою непроницаемою из этих масок, — так хорошо прятал, что иногда и сам не мог найти лица своего под личиною: лицо и личина срастались. Одно из этих сращений мы видели в столь непрозорливом и опрометчивом согласии относительно формулы православия старца Зосимы с Иваном, который уже носит в душе своей Великого Инквизитора; не только, впрочем, здесь, но и вообще в произведениях Достоевского иногда слишком трудно решить, где, собственно, кончается старец Зосима, где начинается Великий Инквизитор, и не есть ли этот последний для Достоевского отчасти то же, что старец Аким для Л. Толстого, то есть оборотень — насколько, впрочем, более страшный и соблазнительный! И тут-то вдруг едва не срывается у нас жуткий вопрос: ну, а что, если «весь секрет» самого Достоевского состоит в том же, в чем и секрет Великого Инквизитора? Что, если и Достоевский просто «не верит в Бога» или верит в двух Богов, в Бога и в Дьявола, которые борются в сердцах человеческих, но еще неизвестно, кто кого победит; а ведь уж, конечно, два Бога — еще хуже, чем ни одного, не только опять-таки для либеральных «мерзавцев», которые «дразнили его ретроградною верою»?
При этом жутком вопросе «оборотень» окончательно ускользает от нас — все дальше и дальше уходит в свой «зеркальный лабиринт», где мы скорее себя потеряем, чем его найдем.
«Мы все нигилисты», — признается Достоевский. Если иногда и он чувствовал себя «нигилистом», то, по всей вероятности, именно в те минуты, когда всего более старался быть принятым за славянофильскую семипудовую купчиху, которая Богу свечки ставит, и когда парился в торговой бане с Мещерским. Достоевскому, пожалуй, легко оправдать себя перед нами всевозможными историческими и общественными условиями, в которых он жил, но нам-то от этого не легче: все-таки главная мысль всей его жизни — «формула православия» — так и остается до сих пор «не разъясненной», может быть, именно теперь еще менее разъясненною, чем когда-либо, и, следовательно, бездейственною. Огромная религиозная сила, которая заключена в Достоевском, как возможность, все еще остается только возможностью и пропадает почти даром для будущей религии или даже прямо задерживает ее, как мертвый груз. В этом-то смысле подлинного Достоевского так же мало знают, как подлинного Пушкина, самого славного и неизвестного из русских писателей; с этой стороны «народная тропа» к обоим «заросла». Произведения Достоевского — это как бы всеми забытый, семью славянофильскими печатями запечатанный, пороховой склад, которым и доныне все еще никто ни для одного выстрела не воспользовался, хотя враг уже при дверях, и война пылает. И произошло это не без вины самого Достоевского, может быть, повторяю, легкой для него, но для нас-то все-таки слишком тяжелой. Если бы христианство Достоевского было хоть отчасти понято, то оказалось ли бы возможным «христианство» Л. Толстого? Но яд принят, а единственное противоядие отвергнуто, даже как будто само стало злейшим ядом. «Мы все нигилисты», — и вот утонченный, скрытый нигилизм Достоевского вырождается в цинически-грубый нигилизм Л. Толстого; опаснейшая середина между Ксерксом и Христом — в середину совсем безопасную, «благоразумную, и потому бесчестную», которой уже дела нет ни до Ксеркса, ни до Христа, в откровенно смердяковский здравый смысл, даже без иронии, который у Л. Толстого сначала подменяет и опошляет, а потом уничтожает религию, делает ее «солью несоленою», религией без Бога и без дьявола, христианством без Христа и без Антихриста. Л. Толстой сказал в сердце своем, — о, конечно, не в сердце великого дяди Ерошки, а только маленького старца Акима: «нет Бога» — и на этом успокоился, окаменел, заживо мертвый, бессмертный. Ежели Достоевский не сознавал всего до конца и потому говорил втайне сердца своего, подобно Дмитрию Карамазову: «Меня Бог мучит; одно только это и мучит, а что, как Его нет», — то, все-таки, не сознавая до конца, он до конца мучился, с этою мукою, — может быть, даже от этой муки и умер. Кажется, вообще в истории всех религиозных движений не было большей муки и жажды веры, чем у Достоевского; была большая вера, большая святость; но именно такой муки, такого алкания Бога нигде никогда не было. «Стучите и отворится». Если нам «отворится», то уж, конечно, потому, что он «стучал». Не мы, впрочем, а те, кто, действительно, вступят в обетованную землю, которую он первый увидел и указал, хотя сам так и не вошел в нее, — поймут, кем для России был Достоевский.
— Вам надо зайца? — спрашивает Шатов Ставрогина в заключение разговора о православном русском народе-богоносце.
— Что-о?
— Ваше же подлое выражение, — злобно засмеялся Шатов: — чтобы сделать соус из зайца, надо зайца; чтобы уверовать в Бога, надо Бога — это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.
— Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?
— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.
— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович. — Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… — залепетал в исступлении Шатов.
— А в Бога? В Бога?
— Я, я буду веровать в Бога.
Тут уже и то отчасти удивительно, что может быть «соус из зайца», который «не пойман», — что может быть, по наблюдению такого серцеведа, как Достоевский, совсем готовая формула православия — «русский народ весь в православии», или все православие в русском народе — без настоящей, а только с «будущею» верою в Бога. Как у Л. Толстого отвлеченное международное христианство без Христа, так здесь реальное, исключительно русское, народное христианство без Бога — уже «православие» — но все еще без Бога. И тут опять жуткий вопрос, который только что напрашивался: ну, а что, если и сам Достоевский потому-то именно все откладывал да откладывал и так до конца не разъяснил своей собственной «формулы», что слишком боялся, как бы не пришлось и ему сказать втайне совести своей, подобно Шатову: «Я верую в Россию, я верую в ее православие. А в Бога… в Бога я буду веровать». Пожалуй, действительно, «такой силы отрицания и не снилось этим олухам». Недаром, впрочем, Шатов — бывший нигилист. Как ни удивительно, что он сумел сохранить старую закваску нигилизма — безбожие в самом православии, но это еще с полгоря: мы ведь знаем, что не один Шатов, но и многие другие, менее откровенные, чем он, русские нигилисты 70-х годов, новообращенные из любви к народу, отлично готовят «соус из непойманного зайца». Гораздо удивительнее, даже почти невероятно, хотя все-таки достоверно то, что этот искушающий цинический вопрос о простой вере в простого Бога является уже относительно не какого-нибудь несчастного кающегося нигилиста, а православнейшего из православных, кажется, в глазах самого Достоевского — почти святого, почти окруженного сиянием «серафимской» святости, князя Мышкина.