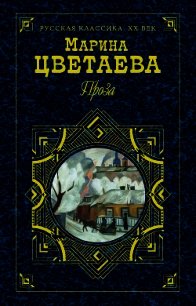Костер неистовой любви (Марина Цветаева) - Арсеньева Елена (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Эту обиду, этот грубый разрыв – Марина характеризовала его как «первую катастрофу» в своей жизни – она не простила до конца дней своих. Однако как странно… Буквально за несколько дней до смерти Марина вдруг увидела во сне Софью Парнок, которая давно уж умерла.
Софья была не одна, а с той женщиной. Они вместе и Марина ехали в поезде, в одном вагоне. Даже во сне Марина была уязвлена этой встречей. Ей снилось, она перешла от Софьи и той, другой, в какой-то плохонький, обшарпанный вагон и больше к ним не возвращалась.
Софья умерла своей смертью. Марина покончит с собой…
Что и говорить, покойники никогда к добру не снятся, даже дорогие!
Так закончился этот безумный и эпатажный роман двух поэтесс. И Марина немедленно, словно заглаживая свою вину перед Сергеем, перед мужчиной, которому она изменила с женщиной, бросилась… О нет, не письма ему, молящие о прощении, строчить! И не к нему поехала. И не сделалась самой истовой прихожанкой ближайшей церкви, не отбивала лба перед иконами, грех искупая.
Она бросилась сразу в два новых романа! На сей раз эта эквилибристика чувств (выражение самой Марины) осуществлялась ею одним махом с двумя мужчинами. Правда, один роман был некоторым образом платонический – на деле, хотя и пылкий – сердечно. Второй воплощался как духовно, так и физически.
Любить двоих одновременно для нее вовсе не было сложно. Это еще на подступах к осознанию собственной невероятной сердечной полигамии, еще в пору влюбленности в двух братьев Эфрон сразу она чуточку – о, самую чуточку! – робела перед собственным раздвоением. Однако связь с Софьей Парнок настолько закалила ее сердце… Нет, не то слово, не закалила, сердце на всю жизнь останется самым уязвимым на свете, кровоточащим и ранимым, обнаженным, «ободранным», как однажды скажет о себе сама Марина… Связь с Софьей сделала ее сердце поистине эластичным и безразмерным. Теперь сердце женщины и поэтессы (ах да – поэта, не будем забывать, она же не любила слово «поэтесса»!) Марины Цветаевой (она давно забыла причуду подписывать свои стихи чужой фамилией!) что-то вроде кусочка знаменитой шагреневой кожи. Теперь оно могло любить одновременно стольких людей, сколько ему было нужно, сколько требовалось для непрерывной работы этой ненасытной печи по имени Творческий Процесс.
Жутко звучит? Избыточно физиологично? Однако забежим несколько (на десяток лет) вперед и призовем на помощь самого точного, самого беспощадного и проницательного эксперта души и сердца Марины, какого она в своей жизни имела, человека, который знал ее лучше других, – все того же Утомленного Анатома, ее собственного мужа.
«Марина – человек страстей, – напишет он Максу Волошину, который отлично знал эту пару и понимал ее беды и проблемы как никто другой. – Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживаются скоро, Марина предается ураганному же отчаянию…
И все это – при зорком, холодном (пожалуй, даже вольтеровско-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужная зола выбрасывается, качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая – все обращается в пламень. Дрова похуже – скорее сгорают, получше – дольше…»
Это так холодно и жестоко. Но так безукоризненно точно! Диагноз или приговор? Часто – одно и то же. Вот как в данном случае.
К этому письму мы еще вернемся.
Ну а теперь, когда нам известен диагноз смертельной болезни Марины Цветаевой – art vulgaris, искусство обыкновенное, – вернемся в 1915 год, когда она любила сразу двоих… Нет, троих – ведь Сергей тоже оставался любимым ею!
А те двое других – кто они?
Один из них – поэт Осип Мандельштам, которого она помнила еще по Коктебелю, с которым встречалась потом раз или два, бродя с ним по Москве, и украдкой, как бы мимоходом, меж чтением стихов, предавалась любви, больше отдавая дань традиции. Ну, так нужно, чтобы мужчина и женщина отправлялись вместе в постель, даже если им не терпится поскорей оторваться друг от друга и начать читать друг другу рожденные их духовной (более духовной, чем физической!) близостью стихи:
Однако рассталась эта пара гениев после кратковременной встречи не без облегчения:
И если Марина позднее испытывала неприязнь к Надежде Мандельштам, жене Осипа Эмильевича, то лишь потому, что была величайшей, как уже говорилось, собственницей из всех живущих на свете.
Второй одновременный роман – с Тихоном Чурилиным, тридцатилетним поэтом из тамбовской Лебедяни. Сестра Марины Анастасия так описывала встречу с ним:
«…Черноволосый и не смуглый, нет – сожженный. Его зеленоватые, в кольце темных воспаленных век глаза казались черны, как ночь (а были зелено-серые). Его рот улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня целую уж жизнь, и голос его был глух… И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес… Он брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он все понимал… рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике, городе Лебедяни… и я писала в дневник: „Был Тихон Чурилин, и мы не знали, что есть Тихон Чурилин, до марта 1916 года“».
Он тоже обладал шагреневым сердцем поэта и был влюблен сразу в обеих сестер. Но Ася всегда находилась в тени Марины…
Встреча с Мариной сразила Тихона и больно его ранила. Она это и сама понимала:
Тихон посвятил недолгой «подруге» свои прозаические произведения, в которых воспел ее: «Из детства далечайшего», где рассказывается о «сладких страданиях» любви, которая как бы приуготовила к смерти впервые полюбившего мальчика, и фантастическую повесть «Конец Кикапу», где отзывается о ней так: «лжемать, лжедева, лжедитя», «морская» «жжженщщина жжосткая», что «лик свой неизменнорозовый держит открыто»…
Однако Тихон был Мариной отвергнут после одной или двух встреч: не нужен ей был равный, взрослый, только притворяющийся ребенком, жаждущий от Марины только тела, тела, ни капли души не желающий! Сама она не знала, чего хотела, ей-богу! То ей мало плоти, то переизбыток… Беда в том, что этого мужчину она не могла любить с тем непременным присутствием материнского начала в страсти, которого так жаждала, без которого не могла обходиться. Между прочим, именно этого не перенес в ней и Осип Мандельштам. Не зря же она называла его гордецом, подчеркивала его дерзость и заносчивость: