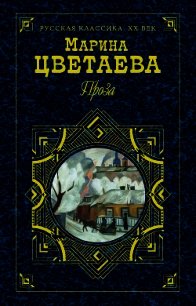Костер неистовой любви (Марина Цветаева) - Арсеньева Елена (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Между тем в своем вдруг случившемся материнстве она лишилась встреч с Никодимом, которому, конечно, мало интересна стала вечно захлопотанная мамаша: как ни мало уделяла Марина внимания своим детям, все же две дочери занимали массу места в ее жизни. И человек, о котором она упоенно восклицала: «О, поэты! поэты! Единственные настоящие любовники женщин!», тихо исчез из ее жизни.
Приехал из школы прапорщиков Сергей, ждущий назначения на фронт.
С грустью убедился в очередной раз, что они с женой – параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Она и сама не раз высказывалась в том смысле, что «для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо что – дыхание, как не ритм души? Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом». Увы, «лежать рядом» с женой у Сергея просто не имелось времени. А значит, их души не согласованы, а значит, ей нет дела до его страшных предчувствий о судьбе России – он ведь беспрестанно общался с так называемыми нижними чинами, знал, каково у них настроение, какой страшной силы разлагательскую работу ведут в войсках большевики, и предвидел, что на недавно свершившейся Февральской революции дело не остановится, все это может кончиться истинной катастрофой для страны. Ну а ему меньше всего интересно, по кому на сей раз хмурятся ее брови, и набегает на глаза слеза, и кривятся в судорожной, не то мечтательной, не то мучительной улыбке губы, и кто вызвал у нее ту горечь, о которой он прочел на небрежно оброненном клочке черновика:
С ощущением этой горечи на губах Сергей и ожидал назначения на фронт. Марина же исступленно писала стихи, исступленно жаждала новой любви, между этими двумя делами занималась детьми… А тем временем обрушилась на Россию ожидаемая Сергеем и пугавшая его катастрофа – Октябрьская революция.
Сергей участвовал в уличных боях в Москве, чудом спасся: удалось, переодевшись, пробраться из Александровского училища домой. Он был просто болен от ярости, от боли за Россию – болен Россией. И мечтал только о том, чтобы представилась возможность продолжать борьбу.
Марина была безумно счастлива, что он остался жив. Странность их параллельных, не пересекающихся путей в том и состояла, что они непременно должны были знать друг о друге – вот есть он (она), вот жив (жива), значит, и я существую. Они не могли жить друг без друга… но и друг с другом жить не могли. Марина это понимала, оттого и писала в своих тайных дневниках: «Личная моя жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась… Причин несколько. Главная, что я – я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке».
Она по-прежнему считала Сергея благороднейшим из людей, и его участие в октябрьских боях только подтвердило это, потому и писала слезами и кровью сердца:
«Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…
Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.
Я написала Ваше имя и не могу писать дальше…»
И одновременно:
Кого же она ждала той ночью? И дождалась ли?
…Москва, 31 декабря 17-го. Поздний вечер. В доброе старое время вечером 31 декабря провожали старый год и готовились к встрече нового. Теперь никто ничего не понимает, все всего боятся и одновременно чего-то ждут. Кто-то – волшебных изменений, которые вмиг, бескровно, сделают Россию великой европейской державой. Кто-то понимает, что, по выражению баснословного князя Игоря, нельзя обрести меда, не погнетши пчел, то есть что без кровушки великие дела не делаются, и ждет, и предчувствует собственную смерть. Кто-то вообще ждет, сам не зная чего – что господь пошлет. А одна женщина ждет встречи с человеком, в которого влюблена. Именно поэтому она спешит теперь из гостей домой, хотя ее уговаривали остаться. Ради него она пришла туда, а его там не оказалось. И больше ей невмоготу было оставаться в той компании: там собрались одни поэты, которые до бесконечности читают свои стихи и ругают стихи других, в том числе – и ее. Какая чушь! Они стихи пишут, она – живет ими, дышит.
Почему он не пришел? Может быть, она чего-то не поняла? Может быть, он ждет у нее дома? Ведь они обычно встречались именно там, в деревянном двухэтажном оштукатуренном доме в Борисоглебском переулке, между Арбатом и Поварской. Спальня и рабочая комната Марины находятся в жилой мансарде. К стене прибито чучело орла; все сплошь затянуто коврами, даже окно, так что и днем на столе должна гореть лампа. На тяжелом маленьком секретере множество старых книжек в истрепанных кожаных переплетах: Державин, Гёте, Лермонтов, Гюго, Мюссе…
Внизу две комнаты: первая большая, но нежилая – только на одной из голых стен висит вверх колесами старый велосипед с деревянной рамой. В соседней комнате, маленькой, тихо, как мышки, спят Маринины дочери, то есть младшая спит, а старшая – неведомо. Может быть, ловит чутким, ревнивым ухом разговоры, доносящиеся сверху…
Он: Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица.
Она: Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же. Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышит). Вот так.
Он: А мужчина хочет – так! (Выброшенная рука. Прыжок.)
Она: Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – «мужчина»! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo… Нет, у всех лучше…
Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха… Женщина – это вздох. Мужчина – это жест. Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат. Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.
Он: А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?
Она: Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью. – И продолжает (робко): Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем, – мыслью?
Он(еще более робко): Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.
Его звали Павел Антокольский – двадцать два года, поэт, актер маленького театра в Мансуровском переулке на Остоженке, ученик Вахтангова. Говоря по-диккенсовски, у них все было впереди – у них ничего не было впереди.