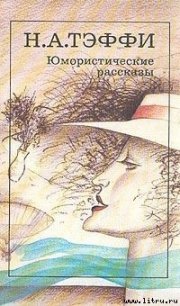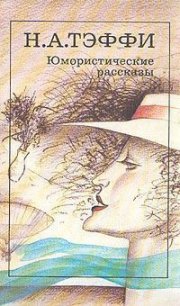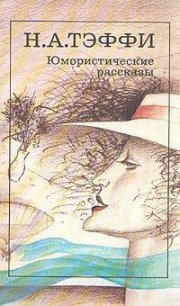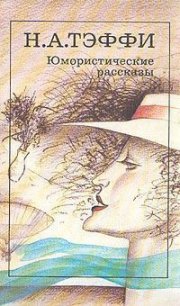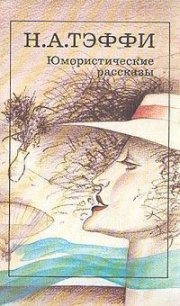Кусочек жизни. Рассказы, мемуары - Лохвицкая Надежда Александровна "Тэффи" (читаем книги .txt, .fb2) 📗
Вошел он радостный, шумный, громыхал сапогами, махал руками и говорил так громко, словно перекликался с кем-то через речку. Шинель ему попалась узковатая, красные руки торчали из коротких рукавов гусиными лапами.
Первый его вопрос был:
— А где же консьержка? Я ее не видал.
— На что тебе консьержка? — удивились мать и сестра.
— Да просто интересно, узнала бы она меня в этой форме.
Он долго поворачивался во все стороны, не снимая форменной шапки, косясь на зеркало и великодушно предоставляя собою любоваться.
— Да ты, кажется, вырос за это время, — сказала сестра.
— Да, многие думают, что мне двадцать лет.
— Отчего нельзя было тебя встречать? — спросила сестра.
— Да я ехал с товарищами, — отвечал он неохотно. — Мы, солдаты, любим сразу с вокзала зайти в бистро, выпить по стаканчику. Вы бы только стеснили.
— Ну, садись, бедный мой мальчик, — сказала мать. — Намучился ты, наверное. Тяжело было?
— Гм… — отвечал Вася. — Как сказать. Конечно, было довольно холодно. Кормили хорошо. Товарищи чудные. Га-га-га! Есть у нас один — Андре Морель. Ну, я такого комика в жизни своей не встречал!
— Да подожди, ты поешь сначала. И почему ты так ужасно кричишь?
— Разве? Разве я кричу?
Начались рассказы из военной жизни.
— Вот вы мне никогда кофе в постель не давали, а там, если кто из нас заленился, товарищ непременно принесет ему кружку с его порцией. И никто не возмущается и не ворчит, как вы.
Потом шли рассказы о том, как поутру встают, как моются.
— А зубы чистят? — спросила мать, заранее делая осудительное лицо.
— Конечно, чистят! — восторженно воскликнул Вася. — Еще как!
— Скоро вас, пожалуй, и на фронт двинут.
— Да, мы надеемся, что скоро.
— Спешить нечего, — сказала мать и вздохнула.
А Вася опять начал свои рассказы про товарищей, про солдатское житье-бытье.
Мать смотрела на него и думала:
— Как он изменился! Совсем какой-то чужой. Похудел, почернел, лапы красные, кричит, стучит, и пахнет от него ремнями, сапогами и мокрой шерстью. И чему он все радуется? Семнадцать лет, а совсем ребенок.
Рассказчик скоро устал. Он чувствовал, что между ним и слушателями нет контакта, все чаще и чаще вставлял в свои рассказы слова: «Ну, вам этого не понять», «Ну, вы этого все равно не поймете». Стал зевать, распяливая рот, как кошка, и попросился спать.
— Мы ведь привыкли в шесть часов вставать и рано ложиться. Вообще, скучища у вас дьявольская.
— Только, ради бога, не стучи так сапогами и не кричи. Ты всех соседей перебудишь.
Несмотря на эти просьбы, утром, часов в семь, застучали сапоги, хлопнула дверь. Ушел. Ушел, но скоро вернулся и не один. За ним шел с блаженно улыбающейся физиономией и горящими ушами Сережа Синев.
— А я… а я встал в шесть часов, — лепетал Сережа, — и никто мне не посмел ничего сказать, потому что рано вставать — это полезно.
Он говорил, задыхаясь и путая слова, так что вместо «полезно» у него вышло «лапезно», но он этого не заметил. Ему было не до красноречия. В такой момент до того ли.
— Я встал и пошел пройтись просто так. И вдруг вижу — вы. И я сразу вас узнал. Ну, буквально. Понимаете: иду, и вдруг выходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, подумал, что, может быть, какой-нибудь пожар… И вдруг вы говорите: «Здравствуй, Сережа». Ну, я сразу вас и узнал. Буквально.
Сережа Синев ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рассмотреть эти роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные, сапоги.
— Ну, а скажите, там ведь все-таки страшно? А?
— Ну чего же тут страшного? — равнодушно отвечал Вася. — Ведь мы же еще не на самом фронте.
— Ну, а все-таки. Шальная пуля может и туда залететь.
Он особенно рассчитывал на эффект выражения «шальная пуля». Выражение определенно военное.
Васе не хотелось отрицать: «Все равно мальчишка не поймет». Он только равнодушно пожал плечами.
— Ну, мы там об этом и не думаем.
— Ну, а скажите, какие у вас товарищи? — волновался Сережа. — Есть и еще старше вас?
— Ну, конечно. Есть во какие бородачи, лет по сорока.
— По со-ро-ка! — восторженно удивился Сережа. — Это уже, должно быть, совсем морские волки. И они тоже все вместе с вами и разговаривают, и все?
— Ну да, конечно.
Сережа несколько секунд молча любовался героем.
— А скажите, вы там уже начали бриться? Или у вас борода еще не растет? — спросил он, глядя на круглые, гладкие Васины щеки.
— Нет, у меня борода уже растет, только я не бреюсь. Я решил запустить бороду. Конечно, понемножку…
Сережа понял, что вопрос был бестактный, и слегка сконфузился.
— А скажите, а генералов вы там видали?
— Сколько угодно.
— А как же они?
— Да ничего. Очень любезны. Со мной, по крайней мере. Но, конечно, они очень требовательны. Дисциплина прежде всего. Надо знать все правила: как стоять в строю, как отдавать честь, как отвечать начальству. Это не пустяки. Иногда от такой мелочи зависит исход сражения.
Сережа Синев слушал, затаив дыхание, и некоторые слова даже повторял про себя шепотом.
— А скажите, вы стрелять уже умеете? — робко спросил он. (А вдруг это бестактно? Вдруг такой вопрос нельзя предлагать военному человеку?)
— Да, нас уже обучают стрельбе. У меня было из десяти почти семь попаданий.
— Это замечательно! — радовался Сережа. — Значит, из десяти неприятелей вы бы уложили семь. Семеро остались бы на поле сражения? Наверное, все начальство безумно удивилось?
— Да, я считаюсь недурным стрелком, — скромно отвечал Вася. (Почему и не поскромничать, раз факты сами за себя говорят.)
— А пушки у вас там были? Из пушек вас учили стрелять?
Из пушек Васю стрелять не учили, но у него не хватило духу в этом признаться. Он чувствовал, что Сереже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. «Пусть дурачок порадуется».
— Ну, конечно, у нас там есть пушки.
— Серьезно? Боже мой! И какого же калибра?
— Само собою разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнообразных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию и отбирают самых способных людей.
— Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стреляла?
— Ну да, конечно.
— И вы близко стояли?
— Близко.
— Ну как, покажите. Вот как до этого комода? Или дальше?
— Нет, пожалуй, еще ближе.
— И что же, очень громко ревет?
— Ужасно.
— И вы слышали, как она ревет? Нет, скажите правду — неужели вы слышали?
— Да, конечно же, слышал. Тут, голубчик, хоть уши заткни, так и то услышишь.
— Замечательно! Я думаю, это все-таки страшно.
Вася встал, пошел в кухню, принес себе кофе.
— Хочешь кофе?
Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жует и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него-то во рту ничего нет.
— Скажите, раньше семнадцати лет нельзя идти волонтером? Не принимают? Боже мой, а ведь пять лет война ни за что не протянется. С такими пушками, которые так ужасно ревут, через два месяца от немцев ничего не останется.
— А скажите, сколько полагается аэропланов, чтобы уничтожить такую пушку? А которая сильнее ревет — обыкновенная или зенитная?
Он смотрел перед собой блестящими невидящими глазами и тихонько бубнил:
— Пам! Пам! Бу-у-у! Пам! Пам! Бу-у-у!
Вечером мать спрашивала Васю:
— Неужели тебе Сережа не надоел? Целый день только и слышно было: «А скажите, а скажите».
— Ничуть не надоел, — сухо отвечал Вася. — Он очень развитой и вполне боеспособный. Он мне советовал идти в артиллерию.
На другой день, уложив в походный мешок изрядный кусок халвы и пачку папирос для товарищей, бравый волонтер отправился на вокзал, строго запретив всякие проводы.
На вокзале он сразу встретил товарищей и смешался с густой толпой бурых и голубых солдат. Заколыхались котомки, мешки, чемоданы. Весело гудели и перекликались голоса, и никто не обращал внимания на маленькую фигурку, прижавшуюся у барьера, и никто не слыхал голоска, робко звавшего: