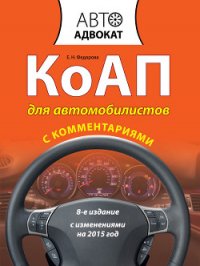На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
Вот я и соблазнилась. Несколько дней, пока рядом была Гизель и работа как-то спорилась шутя, пролетели стрелой, и наконец я впервые села за стол одна.
То, что творилось в этот вечер, да и не только в этот, а и во все последующие, описать трудно! Разъяренная толпа бригадиров, а потом и просто голодных людей, сколько могло влезть в контору, бушевала, как расходившийся океан, за моей загородкой, которая трещала по всем швам и грозила рухнуть. В шуме и криках я ничего не могла разобрать, не могла найти нужных табелей, чтобы исправить в них ошибки. Они ворохом громоздились у меня на столе и разлетались по полу.
Я была в отчаянии… Но ведь людей надо же было кормить! На свой страх и риск я верила людям на слово, заменяла одни талоны другими, кому-то выдавала талоны вовсе без табеля, потому что действительно были люди, которых бригадиры просто забыли внести в табель.
Бригады были нестабильными, состав их постоянно менялся: кого-то переводили нарядчики из одной бригады в другую, кто-то заболевал, кто-то проштрафился и попадал в изолятор, и разобраться во всей этой каше, да еще быстро, под ругань и крики, не было никакой возможности…
Только это бушующее море едва отхлынуло к поверке и отбою, как я принялась за составление сводки о выданных хлебных талонах.
Тут ужасу моему не было предела! Сколько я не билась – ничего не получалось. То людей не хватало по списочному составу, то талонов, опять же согласно этому списочному составу. Я давно уже отдала собственную пайку кому-то из пропущенных, но ведь это была всего лишь одна жалкая пайка, а у меня не хватало целых 19 штук!
Я считала и пересчитывала, складывала на счетах. Все давно разошлись, лагерь погрузился в сон, а я все считала и считала…
К рассвету я вообще уже перестала понимать хоть что-нибудь и, упав головой на ворох табелей, заснула за столом тяжелым и кошмарным сном.
Немногим лучше было и в последующие дни. Гизель уехала и помочь было некому. Я бегала к начальнику – умоляла снять меня на любые общие работы. Но начальник трезво рассудил, что и у другого будет не лучше, а я все же «обученная» Гизелью.
– Ерунда, привыкнете! – философски изрек он.
И я продолжала «привыкать», и каждый вечер выдерживала яростный штурм, и каждую ночь считала до рассвета и до одурения и, поспав два-три часа, снова считала до вечера…
В конце концов я подгоняла цифры к списочному составу и с ужасом ждала ревизии финчасти. Когда обнаружится, что у меня нехватка – и не чего-нибудь, а хлебных талонов!.. И какая нехватка! Она вполне обеспечивала мне новый десятилетний срок!..
Я похудела – почти каждый день приходилось отдавать свою пайку, хотя я и понимала, что это капля в море и спасти меня уже не может; в покрасневших глазах появились страшная резь и зуд – начинался конъюнктивит, и я чувствовала, как на всех парусах несусь в пропасть.
И чем бы все это кончилось – не знаю, если бы опять не новый поворот судьбы – и не только моей…
II. Этап на восток
Наступило 22 июня 1941 года…
Еще до рассвета в бараке мы услышали какие-то отдаленные взрывы и слабые еще звуки пушечных выстрелов. Утром, хотя официально нам никто об этом не объявлял, уже весь лагерь знал, что началась война с Германией.
В первые же дни войны звуки орудийной канонады стали явственнее. Серые самолеты с черными крестами на крыльях почти каждый день появлялись неподалеку от зоны. Иногда они сбрасывали бомбы, которые с тонким свистом, нарастающим до визга, шлепались и взрывались в поле, где-то рядом с зоной. Мы вытаскивали из бараков наши пожитки и спали на земле, чтобы не быть погребенными под обломками, если бомба угодит в барак. И ночью, сквозь сон, был слышен этот вибрирующий свист падающих бомб…
В лагере все смешалось. «58-ю» сняли со всяких работ – в финчасти, в конторе и во всех других местах. На работы за пределы зоны после того, как одна из бригад вернулась с поля, потеряв своего конвоира, выводить тоже перестали. Над бригадой несколько раз пикировал самолет и в конце концов сбросил бомбу, которая разорвалась где-то неподалеку в лесочке. Конвой и заключенные разбежались кто куда, и бригада вернулась в лагерь раньше, чем туда добрались конвоиры.
Бытовиков и мелких уголовников освобождали в массовом порядке, давая им вместо документов какие-то справки.
Во всем этом хаосе я одна по-прежнему сидела в конторе и выдавала по старой памяти бригадирам хлебные талончики. Но теперь все упростилось до ерунды: все получали по 400 грамм – таков был приказ, и подсчитывать ничего уже было не надо, так как ни о каком «списочном составе» не могло быть и речи – он менялся каждый час!
Господи… Сколько вспыхнуло надежд! Теперь, когда объявились истинные враги, теперь-то уж нетрудно будет доказать, что мы – свои, не враги, и в тысячу раз лучше быть убитыми на фронте, чем нелепо, ни за что прозябать в лагере!
Все мужчины бросились писать заявления с просьбами послать на фронт, на самые опасные участки. Но и мы, женщины, просились в медсестры, в санитарки, на какую угодно работу!
…На фронт никого не взяли, но через несколько дней нам было велено собираться на этап. Кроме нас в зоне оставались матерые уркаганы, с десятилетними сроками, сидевшие не первый раз за бандитизм и убийства. Они назывались УБЭ (уголовно-бандитский элемент). На лагерном жаргоне это звучало как «убие» – и невольно ассоциировалось с убийцами, которыми они и были на самом деле.
Всего на этап отправляли около тысячи человек. С собой было велено взять только мешок с минимальным количеством одежды и… ложку!
И вот числа 28-го или 29 июня наш тысячный отряд, наполовину из «58-й», наполовину из УБЭ, был выведен за зону и построен неcкончаемой колонной по четыре человека в ряд. Мешки наши были сложены в две высокие пирамиды.
Так мы стояли на дороге, ведущей из лагеря в Повенец. Стояли час, стояли два, стояли три. Солнце, поднявшееся над лесом, стало нещадно припекать. Хотелось пить. Перед выходом из зоны мы получили обычный этапный паек – 400 граммов хлеба, кусок селедки и пару кусочков сахара. Селедка была уже давно съедена, да и хлеб мало у кого оставался. Пить было нечего. А жажда разбирала чем дальше, тем больше. Затекли ноги, и многие садились тут же на пыльную дорогу. Сначала конвой находил, что это непорядок, и раздавалась команда: «Встать!» Но потом конвоиры, видимо, сами умаялись вконец и перестали обращать внимание на сидящих в пыли – лишь бы не сходили с дороги.
Ничегонеделание – одно из самых тяжких занятий – так, по крайней мере, казалось мне. И когда в конце дня, вконец измученных, нас снова запустили в зону, первой заботой было захватить какой-нибудь из брошенных тюфяков, а затем с наслаждением растянуться на нем.
На следующий день все повторилось: тот же этапный паек, та же поверка по формулярам и обыск перед выходом за вахту и то же Великое стояние на дороге за воротами на солнцепеке, жажда и усталость до одурения. Только орудийное уханье стало слышаться явственней, да немецкие самолеты все чаще мелькали над нами, иногда вдруг резко снижались, проходя бреющим полетом, чуть не задевая верхушки деревьев.
Третий день внес некоторое разнообразие: к полудню жара последних дней разразилась грозой и ливнем, обрушившимся на нас, разметавшим пирамиды наших мешков; дорога превратилась в бурную реку. Сразу стало холодно, и оставшуюся часть дня мы тщетно старались согреться, прыгая в своих лужах. Зато перестала мучить жажда – воды было сколько угодно!
Но и в этот день нам не суждено было уехать. Говорили, что не готов пароход. Но зачем нас заранее выводили из зоны, было непонятно. Говорили, что в этот день сбежали несколько уркаганов, правда, мы видели только стрелков с собаками, часто пробегающих туда– сюда.
Эта последняя ночь в лагере была самой тяжелой. Брошенные на дворе тюфяки насквозь промокли, пришлось устраиваться в бараке на голых нарах, укрыться было нечем, наша мокрая одежда, кое-как развешенная в бараке, конечно, не высохла и до утра. Все тело ныло, и сон, похожий на забытье, временами прерывал свист неподалеку падающей бомбы…