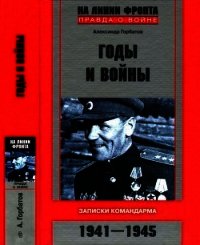Немецкий плен и советское освобождение. Полглотка свободы - Лугин И. А. (книга жизни TXT) 📗
У Алексея также неудача. Семья лесничего давно уехала в Австрию. Вечером мы пили водку. Напившись, подняли страшную стрельбу из винтовки и автомата.
Утром отправились проведать старика Блезера. В подарок понесли бутылку водки и несколько кусков мыла из моих запасов. Погода испортилась. Накрапывал дождик.
Старик встретил нас как родных. Постарел, осунулся. Но по-прежнему живые глаза. Живет один. Жена умерла. Пьет водку, как русский. Весь сияет. Вот-вот скажет старое: «Leben ist Süss!» Спали, накрывшись пуховыми одеялами, необычайно жаркими. Деревенский сапожник починил нам обувь. В деревне все еще жил доктор-белорус с семьей и украинка со своим немцем.
Последний день в лесу. Алексей решил угостить нас французской едой — жареными улитками. Собрал их целое ведро и на ночь засыпал солью. Наутро все улитки вылезли из раковин. Алексей их почистил и изжарил на подаренном стариком маргарине. Я отправился побродить по лесу. Пошел к малиннику, что рос на склоне горы, перед нашей деревней. Сел и задумался: увижу ли еще когда-нибудь свой лес? Как не хочется ехать домой!
Вдруг мое внимание привлек какой-то предмет, слегка торчащий из-под камня. Предмет оказался немецким полковым знаменем в чехле. Его зарыли, по-видимому в спешке, после разгрома фронта бегущие солдаты. Знамя можно было выгодно продать американцам. Но имею ли я право его присвоить? Кто-то умирал и проливал кровь под этим знаменем. Далеко не всякий солдат был преступником. Он исполнял приказ и отдавал свою жизнь так же, как делают солдаты всех армий. Я снова закопал знамя и ничего не сказал спутникам о находке.
Уходя, тщательно спрятал все оружие в старом месте. Но сделал ошибку, показав захоронку Григорию. Он с двумя другими товарищами позже посетит эти места. В результате мой нож исчезнет, а автомат, израсходовав патроны, просто выбросят… Останется нетронутой только винтовка.
Домой мы шли кратчайшей дорогой, прихватив водку и мыло.
12. Репатриация
Во время нашего отсутствия в лагере начали циркулировать слухи о скорой репатриации. Но прошло еще более месяца, прежде чем первая партия отправилась на родину, точнее, в восточную часть Германии, оккупированную советской армией. 2 августа, под звуки баяна, 1500 человек покинули лагерь. Некоторые ехали тяжело нагруженными. Тащили в разобранном виде велосипеды. Один репатриант нес швейную машину. Большинство, однако, имело скромную поклажу, умещавшуюся в мешке с пришитыми лямками.
Я по-прежнему находился на распутье и оттягивал отъезд.
За первой партией последовали другие. Лагерь быстро разгружался. Из брошенных частей я собрал велосипед и обменял его в Брандте на часы. Советовался с немцами. Но они были не в курсе нашего юридического положения. Кроме того, немцы с нетерпением ожидали нашего отъезда. От нас они имели только неприятности. Иногда я склонялся к немедленному уходу из лагеря. Но что дальше? Куда идти, на что жить? Все неясно. Давала знать себя наша тотальная отрезанность от свободного мира и условий жизни на Западе.
5 августа уехали «мой» Григорий, Василий и другие. Я остался без друзей. В громадных казармах, еще несколько дней назад людных и шумных, — непривычно тихо и пусто.
Пришла и моя очередь. 7 августа отходил последний транспорт. Ехали комендант лагеря со своими помощниками и все остальные. Итак, я прибыл в лагерь с первой партией и покидаю его с последней.
Перед погрузкой, под надзором советского и американского офицеров, нам давали на подпись хитро составленную декларацию, объясняющую, что у нас есть единственный выбор — добровольное возвращение на родину. Взглянув в колючие глаза смершевца, репатрианты быстро подмахивали документ.
В час дня посадка и выдача провианта. Мы получаем консервы, хлеб и галеты. Против всяких правил, я прихватываю с собой прекрасное американское одеяло, причем никто не возражает. В 4 часа машины покидают лагерь. Прощай, Ахен!
По словам советского офицера, нас везут в Берлин. Оттуда военнопленных направят в часть. Так ли это?
В 6 часов мы уже сходим во временном лагере в окрестностях Кельна. Дальше нас повезут поездом. На следующее утро мы грузимся в товарные вагоны, и поезд медленно двигается на восток. Только теперь, проезжая Германию, мы видим, какие страшные разрушения причинила немцам союзная авиация!
Едем медленно. По мере приближения к границам советской зоны настроение репатриантов меняется. Меньше смеха, больше страха в глазах, тише шепот пар, сблизившихся в лагере.
Вагон охраняют два американских солдата. На станциях охраны больше. Солдаты, однако, охотно отпускают по 10–15 человек в соседний лесок, чтобы наломать веток и украсить ими вагон. Репатрианты должны проявлять максимум радости — это для истории. Но из отпущенных добрая половина не возвращается назад. Именно в дороге, по моему мнению, сбежала основная часть людей, решивших не возвращаться.
На третьи сутки езды мы прибыли к зональной англо-советской границе около города Гельмштедта. До вечера мы ожидаем встречного поезда. В советской зоне оставлены только одноколейные пути, и движение поездов еще медленнее, чем в западных зонах.
У границы мы впервые увидели советских часовых. Даже у самых храбрых упало сердце. Каждый понимал, что после близкой невидимой черты возврата назад уже не будет. Человек станет рабом злой и беспощадной машины. Грешен, я подумал, да вероятно не только я, что лучше бы мне пробыть еще несколько лет в плену, чем возвращаться к «своим»!
Вечером медленно прошел встречный поезд с французскими военнопленными, возвращающимися домой. Они были освобождены советскими войсками и находились в Курске. Французы были шумны и веселы. Щеголяли приобретенным в лагере русским матом. В ватных куртках и ушанках, они вовсе не имели французского вида.
Наступил страшный момент. С нашего поезда сошли все американцы и выстроились на платформе. Мы помахали им руками. Поезд тронулся и медленно пересек границу. Минут через пятнадцать нас выгрузили на маленьком полустанке около цементного завода. Здесь отделили военнопленных от гражданских лиц. Последних куда-то увели, а нас выстроили в одну шеренгу. Вдоль строя прошел сержант и молча сорвал картонные погоны с плеч нашего лагерного начальства. После этого нас распустили. Ночевали мы на полу в заводских зданиях с другими репатриантами, прибывшими раньше нас.
Утром я увидел, что недалеко в поле расположилась примерно рота азербайджанцев в полном немецком обмундировании и даже с рюкзаками. Но палатка у них была только одна — санитарная. Жили эти репатрианты под открытыми небесами, и их часто мочил дождик. Раз в день к азербайджанцам подъезжала полевая кухня и они получали еду. По слухам, их выдали англичане из Голландии. Но самое удивительное, что, кажется, не было никакой охраны вокруг их лагеря.
При заводе стояла какая-то армейская часть. Красноармейцы, или по-новому — солдаты, как-то не похожи на нас самих и тех, каких мы помнили в начале войны. Во-первых, погоны — мятые тряпки на плечах. Затем, обращение с командирами — почти панибратское, вероятно, результат войны. В большинстве молодые лица. У всех гимнастерки и пилотки почернели от пота и с белыми разводами соли. Но вид имеют бравый и составляют как бы одно целое с автоматом.
Солдат кричит через улицу высокой красивой медсестре: — «Сестра! Парашютики привезла?» — Та кивает головой.
К нам отношение разное. Особой нелюбовью мы пользуемся у грудастых баб в гимнастерках. Они бросают на нас косые презрительные взгляды. Многие солдаты дружелюбны. Один в разговоре сказал мне: «Замучают они вас! Нас каждую неделю вызывают в Особый отдел и все выпытывают!» — Но в общем — отчуждение. Иногда с долей зависти: вот, люди побывали на свободе, повидали мир!
Мы же сразу почувствовали себя людьми второго сорта, будто замаравшими себя чем-то постыдным.
Я проклинал себя за нерешительность, за то, что не остался на Западе. Как ни стесняли нашу свободу американцы, но даже те полглотка свободы были достаточны, чтобы теперь, с необычайной сердечной болью и страхом, почувствовать их потерю навсегда.