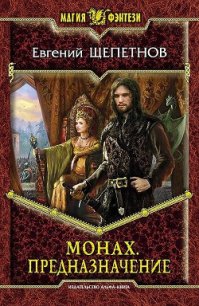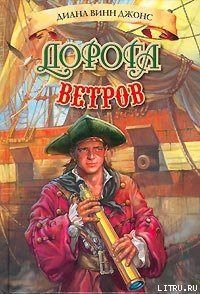Дорога к людям - Кригер Евгений Генрихович (книги без регистрации полные версии TXT, FB2) 📗
— Для англичан?
Отец развел руками:
— Да, для англичан.
— А он англичанин?
Отец почему-то промолчал.
Не буду притворяться, что я многое знаю об этом Василии Семеновиче. Не буду придумывать по методу любителей художественного вымысла в документальной прозе, не буду изобретать потрясающих приключений и подвигов веселого британского инженера, расскажу только о том, что слышал своими ушами, что помню и знаю достоверно. Как-то я забежал в столовую схватить со стола кусок хлеба и убежать обратно во двор к своим ребятам и вдруг услышал: слова англичанина:
— Ну-с, сооружение радиостанции заканчиваю. Можно было бы построить ее в десять раз скорее, она очень нужна союзному командованию. Но бывают случаи, когда я предпочитаю строить медленно, очень медленно. Настолько медленно, чтобы... — Он глянул на меня и закончил вполголоса: — ...чтобы не вызвать ничьих подозрений.
Чувствуя себя лишним, я ринулся к дверям и услышал нечто странное:
— Хо-хо! Я неплохой все-таки инженер. Во всяко! случае, достаточно знающий, чтобы выстроить им станцию, которая никогда не будет работать!
Почему он сказал это так весело и так (мне показалось) злобно?
Опять-таки и тут ничего не стану домысливать. Как было, так и было. Как помню, так и помню. Знаю что мощная радиостанция была наконец выстроена. Знаю, что до самого бегства «союзников» она так и не принесла им пользы. Радиостанция была построена с точным расчетом на то, что работать она не будет, не сможет.
Что я еще помню в этой связи? Я помню, что с того самого дня, когда «союзники» с помпой отпраздновали пуск военной радиостанции, веселый, эффектный, щедрый на шоколад британец Василий Семенович больше не бывал в нашем доме. И никогда больше я его не встречал. Он исчез из города.
Кто же он? Кем он был на самом деле?
Ничего по сему поводу не имею прибавить.
Но все-таки воспоминание о нашем домашнем «британце» уже тогда позволило мне что-то понимать, о чем-то догадываться, когда речь шла о «загадочных» и вездесущих большевиках.
Да, так вот, видимо, «томми» тоже догадывались. Им порою давали для этого достаточно ощутимый повод.
И вот нет «союзников», нет!
Это — и позор первого командующего войсками интервентов английского генерала Pool, что в переводе на русский означает «Лужа», а pull — «тащить», что весьма соответствовало интервентам. Так вот, Пул в самом деле оказался в луже из-за того, что его солдаты не хотели воевать против русских, не знали, какое зло нанесли, могли нанести «Bolsheviks» им самим и их семьям, а второй командующий Айронсайд (Железная Сторона) оказался и впрямь железной стороной английской демократии, поощряя аресты архангельских рабочих, расстрелы во Мхах, окружающих город с севера, допросы с пристрастием в Мудьюге и на Йоканьге, лагерях в Белом море.
Свара была в самом стане наших врагов. Ежевечерне в сквере близ собора на нынешней улице Павлика Виноградова происходили драки между британскими матросами и нашими военными моряками, то есть русскими матросами-белогвардейцами формально, а в большинстве своем если не стоявшими на стороне большевиков, то во всяком случае ненавидевшими непрошеных гостей, какими бы друзьями России они ни рядились. Бились всерьез, «томми» — боксом, наши — традиционным кулачным боем, разумеется, без перчаток, и наутро ремонтникам приходилось чинить или заново ладить сломанную ограду сквера.
Случалось кое-что и посерьезней. Однажды летом в парке у драматического театра, расположенного за нынешней площадью Свободы, за лютеранской церковью и дальше в сторону речки Кузнечихи, во время антракта, когда публика высыпала на аллеи, вкушала мороженое и пиво, услышал я невесть откуда раздавшиеся винтовочные выстрелы. Непорядки в центре мирного города, охранявшегося и флотом Великобритании, и ее войсками, и военной полицией? Как это может быть? «Томми» стремглав бежали мимо театра, к дальнему выходу из парка. Стреляли, как тогда выражались, «пачками», то есть обоймами. Солдаты Дикой дивизии, повстанцы, все же по крышам и задним дворам скрылись от англичан.
...В Соломбале, где мы жили последние годы, соседом по квартире нашей был моряк Драгун, побеждавший ночами свою недавнюю темноту и невежество. За полночь он заставлял себя лечь и спал каких-нибудь три часа, а рано утром уходил в порт, на работу.
Он говорил мне, школьнику:
— Тебе хорошо. Давай! У тебя есть еще время. Ты успеешь сделать столько!.. Ого!
Драгун дал мне первые, после Горы Дмитриева, политические книжки, и я помню, хорошо помню их темную, жесткую бумагу с вкрапленными соломинками, древесиной, их дешевые обложки из мягкого коричневого картона. Помню, как за неимением миллиона рублей (могу напутать, но тогда, по-моему, счет деньгам шел на миллионы) топтался я возле газетного киоска, где звали к себе такие книжки, как «Что делать?» еще не очень знакомого мне Ленина или «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» более знакомого Плеханова.
Весь 1922 год по вечерам, после школы, я усердно штудировал первый том «Капитала» Маркса, готовя новые возражения «меньшевику» Горе, подражая комиссару, его усидчивости и упорству в битве с собственным невежеством. И если я почувствовал вкус к материалистической философии, к правде Маркса и Ленина, то немалая и, главное, первая заслуга в этом принадлежит конечно же тому комиссару Драгуну, моряку, упрямо распознававшему истину в книжках под грубой обложкой.
Из Архангельска моя семья переехала на юг, в Дербент, затем в Баку.
Англичан в Баку, разумеется, я не застал.
Только горестное, неотступно звучавшее в душе — пе-ре-гон Ах-ча-Куй-ма... Нам, влюбленным в стихи, о той страшной беде своей болью напоминали все тот же гнев Николая Асеева, все тот же песенный плач, неутешный плач Сергея Есенина, «бакинца» по дружбе с тамошними людьми, российского, рязанского пиита, взывавшего сквозь дали Каспия к неведомой Шаганэ... Он любил Баку и его людей, он любил придуманную им Шаганэ, любил Восток с его давними поэтами и гуриями, олицетворявшими мечту о великой любви, о жизни доброй и мудрой.
Однажды я встретил Сергея Есенина. Он медленно шел по Ольгинской улице, направляясь к морю, к Приморскому бульвару. Это было незадолго до его гибели в «Англетере». Помню, я с трудом узнал его. По фотографиям я помнил русоволосого отрока, прекрасного, с лицом по-детски нежным, в его глазах — ожидание необыкновенной жизни и непонятная, странная для такого юноши печаль.
Я замер, восторгаясь, что вижу, близко от себя вижу этого человека, боясь ошибиться, ужасаясь тому, что этот немолодой, да, немолодой по внешним признакам человек с одутловатым, красным лицом — это он, он, он! Есенин!.. О, что бы я отдал за то, чтобы глаза обманули меня, чтобы этот прохожий, как бы теряющий самого себя, отсутствующий, погасший, — чтобы этот человек не был Есениным. А тот, русоволосый, прекрасный отрок, счастливый, победительно идущий вслед за своей мечтой о жизни, — таким и остался бы навсегда, там, в России, на рязанской земле, на многолюдных, упоительно звонких, волшебных ристалищах поэтов в Москве!
Убитый непонятной мне бедой, ошеломленный, стоял я в обтекавшей меня толпе, провожая взглядом в чем-то изменившее мне божество...
Я видел в Баку и Маяковского.
Он выступал в помещении огромного оперного театра — Маиловского, как тогда его называли. Давка на улице, у подъездов, в фойе, в зале была неистовая. Уже отзвенели все звонки, уже просрочено время, объявленное в афишах, а вечер начинать немыслимо: шум, стенания, вопли — вавилонское столпотворение. Я безнадежно застрял в дверях на балконе, где смертным боем шли на капельдинеров студенты. В ужасе я увидел, что далеко впереди, внизу, уже вышел на сцену человек, при виде которого мне показалось, что наш оперный театр не столь уж велик. Боже мой, я же все пропущу, я ничего не услышу в этом гаме, в этом штурме безбилетных! И вдруг тот великан на сцене сказал простым комнатным тоном: