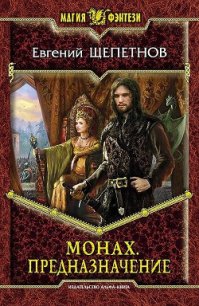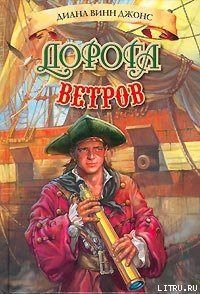Дорога к людям - Кригер Евгений Генрихович (книги без регистрации полные версии TXT, FB2) 📗
...Был у меня тогда хороший друг, Гора Дмитриев. Мы сидели с ним на одной парте в первом ряду, возле самой кафедры. Я и тогда был близорук, плохо видел написанное на доске, меня посадили на первую парту, рядом с первым учеником. А Гора действительно был способным, начитанным, одаренным мальчиком, я бы сказал теперь, с наклонностями ученого, исследователя. И еще прельщало меня в нем чувство юмора, удивительно сочетавшееся с его «ученостью». К юмору я неравнодушен с малых лет, и, пожалуй, именно это обстоятельство прежде всего нас сблизило.
В часы скучных уроков мы с Горой незаметно для других тешили себя такой игрой: в знак крайнего внимания и почтительного уважения друг к другу мы вытягивали губы трубочкой, превращаясь в прославленных, надутых, напыщенных мужей науки, исполненных наивысшей благопристойности, но втайне задыхавшихся от зависти и презрения друг к другу.
— Смею заметить вам, — начинал один из нас, — в аспекте современных представлений о психической бифуркации ума является... э-э-э...
— Мой уважаемый коллега безнадежно путается между реальным и трансцендентальным, — раздуваясь от чувства самоуважения, вещал другой. — Априори можно было бы утверждать, что бифуркация в чем-то тождественна эманации духовного, непознаваемого однако...
— Но даже элементарнейшая философская пропедевтика...
— Это же алогично, анормально, аразумно, ареально, апедагогично, адопустимо и адоказуемо!..
— Нет, почтеннейший, это в высшей степени... гм... реально, педагогично, доказуемо, логично, разумно, нормально и даже аутентично!.. Коллега, я фраппирован!..
Мы так вживались в образы спесивых жрецов науки, что, вызванные вдруг к доске, начинали отвечать на вопрос учителя в той же манере маститых, обремененных годами и славой псевдоученых. Вот это как раз и было смешнее всего. По крайней мере так нам казалось.
Но я отвлекся. Просто вспомнил милого, не по годам эрудированного, веселого, в то же время очень серьезного, целеустремленного Гору Дмитриева.
Вспомнил же я сейчас давнего своего друга вот отчего: полвека назад он первый познакомил меня с книгами Фейербаха, раннего Каутского, Плеханова, Маркса, Энгельса, вовлек в споры о существе и о будущем революции в России, о том, кто такие меньшевики, кто такие большевики и на чьей стороне правда.
Отец Горы был революционером-профессионалом, его хорошо знали в Архангельске, и, когда с интервенцией было покончено, он занял видное положение в местных организациях. Крепко сложенный, высокий, неторопливый в движениях, как-то подчеркнуто авторитетный, внешне он почему-то напоминал мне Мопассана. И усы у него были такие же. Для нас с Горой он был «последней инстанцией» в наших политических спорах. Марксистскую литературу он знал превосходно. Дело революции, подпольной борьбы в условиях царизма изучил на собственном опыте. И все же...
Вечные неожиданности и противоречия жизни. Из-за этого «и все же» я навсегда потерял моего Гору. Началось все, в общем, незаметно для нас обоих.
Однажды мы с Горой впервые разошлись во мнениях. Речь шла, хорошо помню, о позиции германских социал-демократов в годы первой мировой войны. В свои пятнадцать лет я уже читал кое-что о необходимости единства действий и солидарности марксистских партий в случае войны, разъединяющей их кровавой линией фронта.
— Как же так? — спрашивал я Гору, который был для меня неоспоримым авторитетом. — Каутский — марсист, немецкие социал-демократы — марксисты, и если так, то они должны были в 1914 году не за военные кредиты голосовать, а выступить против Вильгельма и Круппа, против зачинщиков войны. Разве не так, Гора?
Робко я ждал ответа. Ведь это впервые осмелился я возразить Горе, такому начитанному, такому убежденному, открывшему для меня Марксово учение о развитии общества, о борьбе классов, о том, что все на земле должно принадлежать тем, кто своим разумом и своими руками создает необходимые человечеству ценности.
Что же ответит мне Гора? Я еще потому волновался, что хорошо знал его преклонение перед Каутским. Что ответит мне Гора? Сокрушит неоспоримыми аргументами? Или просто улыбнется уничтожающе, подчеркивая наивность и школярскую скороспелость моих суждений?
Нет, Гора поступил честно, да и не мог он по своей натуре поступить иначе. Озадаченный, он молчал. Мой робкий вопрос, намекавший на грехопадение Каутского, застал его врасплох. Я же не мог сдерживаться и пробормотал:
— Видишь ли, Гора, по-моему, Каутский и его партия изменили Марксу, предали Маркса...
Нет, это уж слишком! Этого Гора не мог выдержать. В таком гневе я еще никогда его не видел. Бледный, задыхающийся, он только и смог выдавить из себя:
— Ты... Ты что? Ты понимаешь, что ты сказал? Каутский — предатель?!
И, рванув за руку, чуть не порвав на мне рубашку, он потащил меня к отцу, к нашему с ним «патриарху» в области революционной теории. Нет, заранее Гора не упрекал, не корил, не клеймил меня за то, что было в его глазах кощунством. Сверля глазами отца, такого уверенного в себе, такого убежденного в собственной правоте, Гора, уже от себя, задал ему тот самый мой вопрос. И застыл в ожидании.
«Патриарх» смотрел на нас внимательно. Молчал, теребил пушистые усы. Потом, догадавшись, кто явился источником сомнений, спокойно обратился ко мне:
— А вы не думаете, молодой человек, что милитаристы, империалисты — словом, те, кому войны выгодны, водятся не только в Германии, но и еще кое-где? Скажем, в Англии, во Франции, в Америке... Что водились они и в России Николая Второго?
— Конечно, — шептал я, проваливаясь сквозь пол.
— Почему же Каутский и его сторонники должны были предавать свою родину в угоду английскому, французскому, американскому капиталу?
Я был смят, уничтожен спокойным и даже как будто бесстрастным замечанием взрослого собеседника, да еще такого просвещенного, умного. И все же, барахтаясь в вихре возникавших и тут же терявшихся мыслей, я смог выдохнуть:
— Но ведь тогда... Тогда и революции никогда нигде не будет. Не может ее быть, если даже революционеры будут поддерживать всяких кайзеров и гинденбургов...
— По-вашему, милый юноша, родина — понятие уже устаревшее, архаическое?
— Нет, что вы!..
— Настоящие социал-демократы тут не согласятся с вами. Хе-хе... И Каутский в их числе.
Вдруг меня осенило. Беспорядочный рой догадок, мыслей, навеянных чтением большевистских брошюрок, мгновенно сжался, слился в одну фразу:
— Это только кажется, что родина одна для всех, что она одинаковая, что ли, для всех, кто живет в стране.
— Ха! Неясно, молодой человек! Туманно-с!
— Ну... Понимаете, рабочие видят родину по-своему, а капиталисты — по-своему. Так вот, Каутский, который вроде бы за рабочих, заставил свою партию голосовать не за родину Маркса, а за родину Вильгельма и Круппа.
— Ага. Так. Слушаю! Дальше. Впрочем, я начинаю догадываться, уважаемый...
И я выпалил:
— В России по-настоящему защищали свою родину те, кто выступил против войны, кто добивался поражения царской армии. Это невероятно, это не сразу можно понять, но... Эти люди шли даже на поражение России только для того, чтобы превратить войну капиталистов в войну за будущее России... Понимаете?.. Черт, я неясно выражаюсь...
Воцарилась грозная для меня тишина. Гора, уже не бледный, а пылающий, окаменел, только глаза его впились то в меня, то в отца. Тот все еще молчал. Потом встал с кресла, посмотрел на меня, как на незнакомого и неприятного ему человека, и сказал:
— Вы выражаетесь достаточно ясно. К сожалению, больше нам разговаривать, собственно, не о чем. Я все понял.
В отчаянии я бросился к двери. Мой друг, мой Гора не пошел за мной, как всегда, провожая. Молча он стоял рядом с отцом, а тот бросил мне вдогонку:
— В боль-ше-вики метите, сударь?.. Что ж! Теперь это модно! Весьма!
Сударь! Мне же только пятнадцать лет... Я еще хотел спросить, что значит словечко «модно» по отношению к моим словам и моему поведению, но услышал только брезгливое: