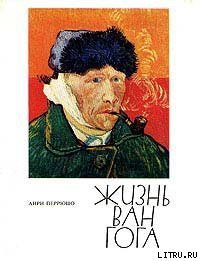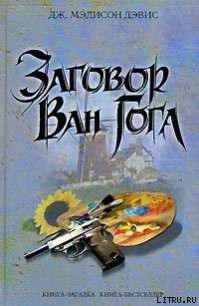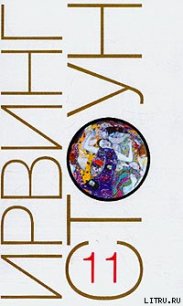Жажда жизни - Стоун Ирвинг (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
– В доме, кажется, темно, – сказал Винсент. – Как бы нам войти, не потревожив семейство?
– У Жоржа есть мансарда. Зайдем с другой стороны, может быть, там горит свет. Кинем ему в окно камешек. Нет, нет, кидать буду я. А то вы еще бросите неудачно, попадете в окно на третьем этаже и разбудите мамашу.
Жорж Съра сошел вниз, открыл дверь и, приложив палец к губам, повел гостей наверх. Когда он притворил дверь своей мансарды, Гоген сказал:
– Жорж, я хочу тебя познакомить с Винсентом Ван Гогом, братом Тео. Он пишет как голландец, но во всем остальном это чертовски хороший парень.
Мансарда у Съра была очень большая, она занимала чуть—ли не целый этаж во всю длину. На стенах висели огромные неоконченные картины, под ними высились подмостки. Висячая газовая лампа освещала высокий квадратный стол, на котором лежало сырое полотно.
– Рад познакомиться с вами, господин Ван Гог. Сделайте милость, простите меня, я поработаю минутку. Надо еще раз пройтись в одном месте, пока краски не просохли.
Он взобрался на высоченный табурет и склонился над своей картиной. Газовая лампа бросала ровный, желтоватый свет. Двадцать маленьких горшочков с краской были аккуратно расставлены вдоль края стола. Съра обмакнул в краску кончик кисточки – таких маленьких кисточек Винсенту никогда не доводилось видеть – и с математической точностью начал наносить на холст цветные пятнышки. Он работал ровно, без всякого волнения. Движения у него были рассчитанные и бесстрастные, как у машины. Точка– точка—точка. Зажав отвесно кисточку в пальцах, он едва касался ею краски и тук—тук—тук—тук – сотни раз быстро ударял ею по полотну.
Винсент смотрел на него разинув рот. Наконец Съра обернулся и сказал:
– Ну, вот, я и выдолбил это место.
– Ты не покажешь свою работу Винсенту, Жорж? – спросил Гоген. – Он ведь из тех краев, где пишут только коров да овец. О существовании нового искусства он узнал всего неделю назад.
– Тогда, пожалуйста, влезьте на этот табурет, господин Ван Гог.
Винсент взобрался на табурет и глянул на лежавшее перед ним полотно. Ничего подобного он не видел до этих пор ни в искусстве, ни в жизни. Картина изображала остров Гранд—Жатт. Здесь, подобно пилонам готического собора, высились какие—то странные, похожие скорее на архитектурные сооружения, человеческие существа, написанные бесконечно разнообразными по цвету пятнышками. Трава, река, лодки, деревья, – все было словно в тумане, все казалось абстрактным скоплением цветных пятнышек. Картина была написана в самых светлых тонах – даже Мане и Дега, даже сам Гоген не отважились бы на такой свет и такие яркие краски. Она уводила зрителя в царство почти немыслимой, отвлеченной гармонии. Если это и была жизнь, то жизнь особая, неземная. Воздух мерцал и светился, но в нем не ощущалось ни единого дуновения. Это был как бы натюрморт живой, трепетной природы, из которой начисто изгнано всякое движение.
Гоген, стоявший рядом с Винсентом, увидев выражение его лица, расхохотался.
– Ничего, Винсент, с первого раза полотна Жоржа поражают любого точно так же, как и вас. Не смущайтесь! Что вы о них думаете?
Винсент поглядел на Съра, как бы прося прощения.
– Вы меня извините, господин Съра, но в последнее время на меня свалилось столько неожиданностей, что я утратил всякое равновесие. Я воспитан в голландских традициях. Того, за что борются импрессионисты, у меня и в мыслях не бывало. А теперь вот я с удивлением вижу, как все мои прежние представления рушатся.
– Понимаю, – спокойно ответил Съра. – Мой метод переворачивает все искусство живописи, и нельзя требовать, чтобы вы приняли его с первого взгляда. Видите ли, господин Ван Гог, до сего времени живопись основывалась на личном опыте художника. Я поставил себе цель сделать ее абстрактной наукой. Мы должны научиться классифицировать наши ощущения и добиться здесь математической точности. Любое человеческое ощущение может и должно быть сведено к абстрактному выражению в цвете, линии, тоне. Видите эти горшочки о краской на моем столе?
– Да, я сразу обратил на них внимание.
– Каждый из этих горшочков заключает в себе какое—то человеческое чувство. По моей формуле чувства можно изготовить на фабрике и продавать в аптеке. Довольно нам смешивать краски на палитре, полагаясь на случай, – этот метод уже стал достоянием прошлого века, Отныне пусть художник идет в аптеку и покупает горшочки с красками. Наступил век науки, и я намерен превратить живопись в науку. Личности предстоит исчезнуть, а живопись должна подчиниться строгому расчету, как архитектура. Вы меня понимаете, господин Ван Гог?
– Нет, – сказал Винсент. – Боюсь, что не понимаю.
Гоген подтолкнул Винсента локтем.
– Но послушай, Жорж, почему ты уверяешь, что это именно твой метод? Писсарро открыл его, когда тебя еще не было на свете.
– Это ложь!
Лицо Съра побагровело. Соскочив с табурета, он быстро подошел к окну, побарабанил пальцами по подоконнику и напустился на Гогена:
– Кто сказал, что Писсарро открыл это прежде меня? Я утверждаю, что это мой метод. Я первым применил его. Писсарро воспринял пуантилизм от меня. Я переворошил всю историю искусства, начиная с итальянских примитивов, и говорю вам, что до меня никому это не приходило в голову. Да как ты только смеешь...
Он свирепо закусил нижнюю губу и отошел к подмосткам, повернув к гостям свою сутулую спину.
Винсент был изумлен такой резкой переменой. У этого человека, который только что тихо сидел, склонившись над своей работой, были на редкость правильные, строгие в своем совершенстве черты лица. У него были бесстрастные глаза, суховато—сдержанные манеры ученого, погруженного в свои исследования. Голос его звучал холодно, почти назидательно. Минуту назад во всем его облике было нечто столь же абстрактное, как и в его полотнах. А теперь он, стоя в углу мансарды, кусал свою толстую красную губу, выпяченную из пышной бороды, и сердито ерошил кудрявую темно—русую шевелюру, которая только что была аккуратнейшим образом причесана.
– Хватит тебе, Жорж! – увещевал его Гоген, подмигивая Винсенту. – Всем известно, что это твой метод. Без тебя не было бы никакого пауантилизма.
Съра смягчился и подошел к столу. Гневный блеск его глаз понемногу гаснул.
– Господин Съра, – заговорил Винсент, – разве мы можем превратить живопись в отвлеченную, безличную науку, если в ней всего важнее выражение личности художника?
– Одну минуту. Сейчас сами увидите.
Съра схватил со стола коробку цветных мелков и уселся прямо на пол. Газовая лампа ровно освещала мансарду. Было по—ночному тихо. Винсент присел по одну сторону Съра, Гоген – по другую. Съра все еще не мог унять свое волнение, и голос его прерывался.
– На мой взгляд, – сказал он, – все способы воздействия, существующие в живописи, можно выразить какой—то формулой. Допустим, я хочу изобразить цирк. Вот наездница на неоседланной лошади, вот тренер, а здесь публика. Я хочу выразить дух беспечного веселья. А какие у нас есть три элемента живописи? Линия, цвет и тон. Прекрасно. Чтобы выразить дух веселья, я веду все линии вверх от горизонта – вот так. Я беру яркие, светящиеся цвета, они у меня преобладают – в результате у меня преобладает теплый тон. Видите? Ну разве это не абстракция веселья?
– Верно, – согласился Винсент. – Это, может быть, и абстракция веселья, но самого веселья я здесь не вижу.
Все еще сидя на корточках, Съра взглянул на Винсента. Его лицо было в тени. Теперь Винсент снова увидел, как красив этот человек.
– Я не стараюсь выразить само веселье. Вы знакомы с учением Платона, мой друг?
– Знаком.
– Так вот, художник должен научиться изображать не предмет, а сущность предмета. Когда он пишет лошадь, это должна быть не та конкретная лошадь, которую вы можете опознать на улице. Камера создает фотографию; нам же следует идти гораздо дальше. Мы должны уловить, господин Ван Гог, платоновскую лошадиную сущность, идею лошади в крайнем ее выражении. И когда мы пишем человека, это должен быть не какой—то, к примеру, консьерж, с бородавкой на носу, а дух и сущность всех людей. Вы меня понимаете, мой друг?