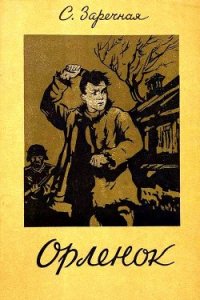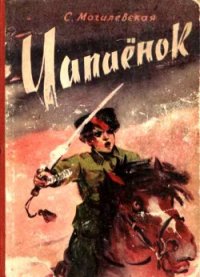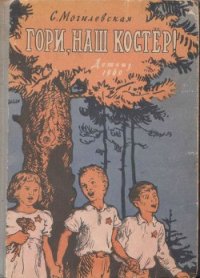Казачок графа Моркова - Заречная Софья Абрамовна (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
Акимов остановился, ожидая, чем кончится эта сцена. Щукин, сначала озадаченный, оправился.
— Полно, Василий. Смириться надо. Крепостное состояние — закон. На нём государство стоит. Граф Морков — господин милостивый, тароватый, тебе роптать не приходится.
— Стало быть, и вольные господам служат! А нас, холопов, и вовсе за людей не почитают. Так пускай бы уж лучше милостивый граф нас в скотском состоянии держал! А то поживши человеком, да снова под ярмо…
Губы у Тропинина затряслись. Внезапно он умолк и выбежал вон.
Два друга
Куранты отзванивали «Коль славен». По ту сторону окон, занавешенных толстым штофом, розовели в утреннем солнце опушённые инеем деревья.
Особняк просыпался снизу, с подвала. Заспанная стряпуха в замусоленном переднике, крестя зевающий рот, нехотя растапливала печь. Кухонный мужик Федька раздувал голенищем серебряный самовар. Рябоватый, вихрастый казачок Фомка, поплёвывая на щётку, чистил сапоги, штиблеты и башмаки с пряжками.
По углам, под низкими закоптелыми сводами, шуршали чёрные тараканы. Их расплодилось великое множество, потому что истреблять их и люди не решались, да и сам граф не приказывал: чёрные тараканы приносят счастье.
Босоногая девка, шлёпая пятками и высоко держа на отлёте белоснежный чепец, пронеслась вверх по витой лестнице в комнату мадам Боцигетти, гувернантки молодых графинь.
Во втором этаже, в светлой, просторной горнице, Василий Андреевич Тропинин заканчивал фамильный портрет графов Морковых.
Отстроив заново дом, сгоревший во время московского пожара 1812 года, граф Морков отвёл своему крепостному художнику отдельное помещение для работы, а главное, для приёма знатных и просвещённых ценителей.
Василий Андреевич любил эти утренние часы сосредоточенной безотрывной работы, пока господа ещё спят. Розовые от морозного солнца снега за окном румянят отражённым сиянием воздух, и под кистью художника тёплые розовые блики ложатся на белое платье молодой графини в центре портрета, на белого пуделя у ног графа.
В клетке на окне чирикает чижик.

Жена Аннушка хлопочет по хозяйству в горнице рядом. Пахнет свежеиспечённым хлебом, сушёными травами, лампадным маслом.
Частый стук каблучков вверх по витой лестнице. Певучий скрип двери.
— С добрым утром, Василий Андреич! Всё рисуешь? Дай взгляну.
С широкого полотна фамильного портрета, точно отражённое в зеркале, улыбается молодой графине её собственное изображение: приветливые карие глаза, мягкий нос «сапожком», белое платье с высокой талией. И, радуясь, как дитя, Наталья Ираклиевна хлопает в ладоши:
— Ай хорошо! Словно в натуре! Скоро ли готов будет? Папенька сей фамильный портрет мне к свадьбе презентовать намерен. Так ты уж постарайся ради меня.
— Слушаю, ваше сиятельство.
Она рассматривает картину в лорнет и добавляет озабоченно:
— Кружева-то, кружева постарательней выпиши! Кружева драгоценные, венецианские, так чтоб сразу узнать можно.
— Слушаю, ваше сиятельство.
— Ах, позабыла вовсе! У нас с тобой нынче урок по атласу рисовать. Да мне сейчас нельзя. На Кузнецкий ехать надобно. Так после завтрака рисовать буду.
— Слушаю, ваше сиятельство.
Снова певучий скрип двери. Частый стук каблучков вниз по витой лестнице.
Художник вздохнул.
Он не любил кропотливо отделывать детали. Смелые небрежные мазки были больше ему по вкусу. Но её сиятельство выразила желание щегольнуть драгоценными кружевами, и покорная кисть тщательно выписывает паутинный рисунок.
В горницу влетел казачок Фомка, рот до ушей.
— Василь Андреич, тама спрашивают вас. Хи-хи-хи… Вот чудной-то! Лекарь, сказывает… из Кукавки приехавши…
— Данилевский?! Прокопий? Зови, зови скорее! — радостно крикнул он.
С палитрой в руках бросился к двери:
— Проша… друг!.. Сколько лет… Батюшки!..
Побежал полутёмным коридорчиком к лестнице.
Незнакомый пожилой крестьянин, обросший клочковатой бородой, окликнул его:
— Вася… Василий Андреич!..
Тропинин остановился, досадуя на задержку. Испитое, в дряблых складках лицо… слезящиеся глаза.
И вдруг узнал:
— Прокопий, ты? Проша! Да как же ты, братец мой, переменился!
Друзья облобызались. Тропинин увёл Данилевского в свою мастерскую. Рассеянно и хмуро разглядывал деревенский лекарь картины по стенам, незаконченный семейный портрет.
«Как опустился, постарел…» — горестно подумал Тропинин, не зная, что сказать.
Данилевский понял, усмехнулся:
— А давненько ты к нам в Кукавку не жаловал.
— Да, с той самой поры, как церковь расписывал и господский дом. — И спросил осторожно: — Ну, а ты-то как живёшь, Прокопий?
— Сам видишь как. Городского платья по сей день лишён, дабы не зазнавался, не возомнил лишнего.
— Платье — что! — возразил Тропинин. — Работа как? Наука?
— Нет, врёшь, брат! — вскинулся на него Данилевский. — Неспроста меня понуждают носить сие платье, но ради вящего моего унижения. Помни, мол, холоп, кто ты таков есть! Не превозносись! Про учёную карьеру и думать позабудь. Заставили забыть. В лаптях да в сермяге в университет не проберёшься, а сельскому лекарю где науки добыть? Книг не имею. И старое, что знал, забывается. Снадобья сам изготовляю из трав да мужичков пользую, как бабка моя, знахарка, пользовала. Только что с уголька не спрыскиваю, вот и вся разница.
— Так… так… Да к тому ещё, вижу, пьёшь, Прокопий, — мягко упрекнул Тропинин.
— Пью, пил и буду пить! — вдруг крикнул Данилевский. — Душа горит, Василий! Или живой душе можно надругательство выдержать, не дурманя себя? Ведь словом перекинуться не с кем. Просвещённого ума на всю округу днём с огнём не сыщешь. Одни баре-самодуры да тёмные мужики. И те же ещё и трунят: «Что, помогла тебе наука твоя, лекарь учёный? Так же, как и мы, грешные, в курной избе живёшь да в лапти обуваешься». Что говорить! Всего не перескажешь… Жену бабы донимают за то, что не бью я её. Ну и прячешься ото всех. Точно крот, в нору свою уходишь да вино глушишь. Эх, Василий, как ты-то уцелел в кабале? Где силы берёшь для жизни каторжной? Открой старому другу, поведай тайну.
— Какая тайна? Никакой тайны нет, — сказал Тропинин. — Терпение да любовь великая — вот тебе и вся тайна.
— Любовь? — Данилевский злобно ощерился. — К супостатам нашим любовь? К сиятельному графу со чадами и домочадцами?
— Нет, Прокопий, к искусству любовь, к делу жизни моей. — Тропинин провёл рукой по незаконченному полотну, словно приласкал картину. — Это мне и силы даёт терпеть. Что поделаешь, друг, плетью обуха не перешибёшь.
Но Прокопий яростно замотал головой.
— Как жить? Как перенесть? Где взять терпения? Подумай, Василий, одно графское слово, один росчерк пера… и был бы я теперь знаменитый учёный! Меня университет за границу отправить хотел. — И, уже не помня себя, исступлённо: — На всю империю Российскую, на весь мир прогремел бы… прославился! Я бы… я бы… человечество облагодетельствовал!..
Голос у него сорвался, он заплакал, молча обнял друга, заговорил тусклым голосом:
— Кто я теперь? Лекарь-недоучка, пьяница горький… Раздавили, точно червяка, затоптали… погубили жизнь… Душа горит, Василий!

— Полно, братец, — мягко, точно больному или ребёнку, говорил Тропинин. — Пойдём к жене, потолкуешь с ней. Аннушка у меня женщина душевная. Разговорит тебя.
— Что обо мне толковать? Я — конченый.
Поварской колпак просунулся дверь:
— Василь Андреич, его сиятельство приказать изволили трёх сортов десерт изготовить: гостя к завтраку ждут.
Тропинин обернулся к Данилевскому:
— Слыхал? Вот тебе и жизнь моя.
Он тщательно вытер кисти, сменил перепачканную красками коричневую блузу на белоснежный халат и, передав приятеля на попечение жены, ушёл в поварню.