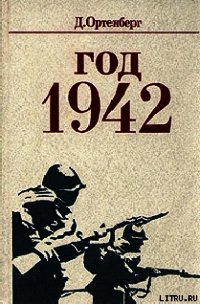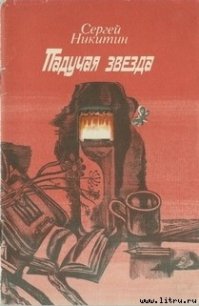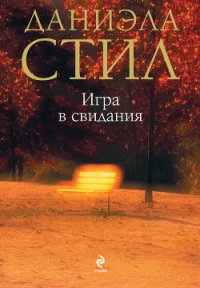Июнь-декабрь сорок первого - Ортенберг Давид Иосифович (читать книги регистрация txt) 📗
Еще один документ и комментарии к нему писателя:
"Немцы захватили Киев, но не поставили на колени древний город. Раздраженно пишет колонизатор в "Кракауер цейтунг": "Спокойствие киевлян невозможно побороть, оно сделало их нечувствительными к любым средствам принуждения". Мы знаем, что это значит, - морят голодом, пытают в гестапо, отбирают дочерей и шлют их в Германию, расстреливают, вешают..."
Эренбург не был бы Эренбургом, если бы, рассказав об ужасах в оккупированном Киеве, поставил на этом точку. Он продолжает:
"Почему "спокоен" Киев? Киев ждет. Ждет среди развалин, среди запустения, среди немецких окриков... среди обид и виселиц.
Киев слушает: что на Волге? Что на Тереке? Что на Неве?..
Мы мстим за тебя, Киев. Этим мы дышим, этим живем..."
Дошел голос писателя и в оккупированный Киев. Многострадальные киевляне слушали его статью по радио, читали в листовках и подпольных газетах.
* * *
Вернусь, однако, к событиям тех дней, когда вышла газета с первой статьей Эренбурга "Киев".
Танковые группы Клейста и Гудериана, наносившие одновременный удар с юга и севера, соединились 15 сентября в районе Лоховиц, сомкнув кольцо вокруг киевской группировки наших войск. А непосредственно на Киев навалилась самая мощная из немецких полевых армий - 6-я, имевшая в своем составе двадцать одну дивизию. Ожесточенные бои продолжались до 27 сентября. Многим удалось вырваться из вражеского кольца, многие ушли к партизанам, но десятки тысяч советских бойцов и командиров погибли в неравной борьбе.
Не миновала беда и корреспондентов "Красной звезды", работавших на Юго-Западном фронте. Из окружения удалось выбраться лишь двоим Сиславскому и Абрамову. Кроме Шуэра и Сапиго, о которых я уже рассказывал, погибли тогда же писатели Борис Лапин и Захар Хацревин. Нашлись очевидцы последних дней их жизни. До нас дошли потрясающие подробности.
Хацревин давно был нездоров. Я узнал об этом еще на Халхин-Голе, хотя он старательно скрывал свою болезнь. Перед вторым своим отъездом в Киев Хацревин в добавок еще простудился, подскочила температура. Когда он зашел ко мне вместе с Лапиным попрощаться, я не заметил ухудшения в его здоровье. И, думаю, не потому, что мне отказала элементарная наблюдательность, а потому, что Хацревин артистически разыгрывал роль здорового человека: внешне был бодр, жизнерадостен, остроумно шутил.
При выходе же из киевского котла он окончательно выбился из сил: задыхался от кашля, горлом хлынула кровь. Идти самостоятельно уже не мог его несли на плащ-палатке. Какой-то полковник с танкистскими петлицами приказал Лапину отнести Хацревина в лес, где "должен быть врач", а самому вернуться и продолжать попытки выйти из окружения. Лапин ответил на это так, как мог ответить только преданный друг:
- Я не могу, я не имею права оставить его...
В ноябре мне принесли проект приказа об исключении Лапина и Хацревина из списков личного состава "Красной звезды", как пропавших без вести. На чудо я уже не надеялся, но, щадя Илью Григорьевича Эренбурга и его дочь Ирину - жену Лапина, подписал такой приказ лишь в феврале сорок второго года.
* * *
Погиб в киевском окружении и Абрам Слуцкий - самый молодой из наших фоторепортеров. Профессиональные азы он постигал в фотокружке Московского Дворца пионеров. В "Красную звезду" пришел незадолго до войны, едва ли не со школьной скамьи. В штат редакции был зачислен учеником.
Длинноногий, по-мальчишески угловатый, с нежными чертами лица и не менее нежной душой, он производил впечатление не оперившегося еще птенца. По этой причине его звали только Абрашей. Тем не менее у Слуцкого уже тогда угадывались задатки будущего фотомастера. Он был одержимо влюблен в свою профессию. Необыкновенно воодушевлялся при появлении его снимков на страницах газеты. Обладал такими немаловажными для фоторепортера качествами, как быстрота и настойчивость. Рассказывали мне о таком эпизоде. Как-то мы командировали Слуцкого на чкаловский аэродром обслуживать какой-то важный перелет. Как ни строги были тамошние порядки, он оказался у самолета первым и оставался на аэродроме всю ночь, хотя все остальные фотокорреспонденты до утра разошлись по домам.
На фронт мы впервые пустили Слуцкого только в начале августа и то на пару с кем-то из бывалых фотожурналистов. Да и в дальнейшем он сопутствовал обычно Дмитрию Бальтерманцу, Михаилу Бернштейну, Федору Левшину, прошедшим боевую закалку на Халхин-Голе, на финской войне. Старшие товарищи заботливо оберегали его, не разрешали лезть в пекло. Иногда подшучивали при этом:
- Ты же у нас "сын полка".
Первый фронтовой снимок Слуцкого был напечатан 5 августа с таким пояснительным текстом: "Действующая армия. Орудийный расчет сержанта Дембовского громит фашистские укрепления". Это все же вдали от переднего края. Затем появилась фотография "Минометный расчет ведет огонь". Это уже поближе к передовой. Позже пошли снимки с самого "передка". Неизменно за двумя подписями - Слуцкого и кого-либо из его шефов. 21 сентября из-под Киева он прислал фотографии, подписанные только своей фамилией. Из них мы опубликовали одну: "Пулеметчики Д. Зубов и И. Сангин ведут огонь по противнику из захваченного у немцев пулемета".
Это был последний снимок Слуцкого. Где, когда, при каких обстоятельствах он погиб - неизвестно.
Перечитывая этот номер "Красной звезды", невольно задерживаюсь на статье "Уманская яма". Я помню историю этой статьи так, словно все произошло только вчера.
Передали ее в редакцию наши спецкоры Николай Денисов и Петр Олендер. В одном из сел под Харьковом встретили они старшего политрука Сергея Езерского, только что вырвавшегося из немецкого плена. Захватили его гитлеровцы раненым и отправили поначалу в концлагерь близ местечка Голованевское, потом перевели под Умань в так называемую "Уманскую яму". Это огромный карьер длиною в триста метров с отвесными стенками высотой в 15 метров. Согнали туда не только военнопленных, а и множество мирных жителей - стариков, женщин, детей. Голод, пытки, истязания, травля собаками, расстрелы по малейшему поводу и без повода - все было здесь.
- Прежде я бы просто не поверил, что такое возможно, - сказал Езерский нашим спецкорам.
Корреспонденты записали его рассказ - одно из первых свидетельств о кровавых преступлениях фашистов в столь широком масштабе. Правильно оценили значимость этого свидетельства. Но как передать его в редакцию? Прямой военной связи с Москвой поблизости не оказалось. Воспользовались аппаратом "Морзе" в какой-то небольшой воинской части. Передача их беседы с Езерским велась всю ночь по очень сложной цепочке связи через два-три передаточных пункта.
Далеко не уверенные в том, что корреспонденция, отправленная таким кружным путем, дойдет до редакции, Денисов и Олендер поспешили рано утром в Харьков, на прямой провод с Москвой. При въезде в город увидели на площади возле радиорепродуктора внушительную толпу. Вылезли из машины, подошли ближе. Знакомые фразы.
- Так это же наше! - воскликнул Денисов.
Да, это была их беседа с Езерским.
Мы получили ее, когда началось уже печатание очередного номера газеты. Но ради такого материала стоило задержать ее. Остановили ротационную машину. Беседа с Езерским срочно была набрана и поставлена в номер.
Не часто мне приходилось поступать так, и потому этот случай не мог не запомниться.
Рядом с корреспонденцией "Уманская яма" очень кстати пришлись стихи Янки Купалы в переводе Михаила Голодного. Они прозвучали словно отклик на злодеяния гитлеровцев.