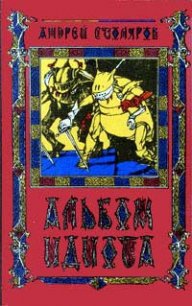Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT, .FB2) 📗
Кинотеатр Уран – дореволюционный, прекрасный, не такой дворцовый, как Форум, но куда респектабельнее Перекопа или Экрана жизни.
Букинист. Тут я купил пятитомного Хлебникова.
Оскверненная церковь Успения-в-Печатниках.
СРЕТЕНСКИЕ ВОРОТА. ТРАМВАЙ ПОПЕРЕК СРЕТЕНКИ, т. е. вдоль бульвара. Над бульваром налево – роскошные дома страхового общества Россия.
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА – продолжение Сретенки к центру.
Как на Сретенке, все дома тут старые, кроме клуба НКВД и самой ЛУБЯНКИ. Магазинов мало и все они ближе к Сретенскому бульвару.
Учрежденские домишки без вывесок и с решетками на окнах.
Испорченный в конце прошлого века и в двадцатые годы дворец Ростопчина. Конструктивистский клуб НКВД с гастрономом Стрела.
Лубянка, Большой дом.
Сретенский монастырь – осталась одна церковь в мерзости запустения.
Дом с Гермесами и кадуцеями – в нем днем и ночью работал Дзержинский, въезд во двор с переулка, страшного, Варсонофьевского.
Огромный – эклектика – обнимает площадь Воровского дом Л. Н. Бенуа, Мининдел. Из проема между крыльями, как из уборной, враскоряку выходит:
ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РСФСР И УССР В ИТАЛИИ ТОВАРИЩУ ВАЦЛАВУ ВАЦЛАВОВИЧУ ВОРОВСКОМУ УБИТОМУ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ НА ПОСТУ В ЛОЗАННЕ 10 МАЯ 1923 Г.
Направо и вниз был КУЗНЕЦКИЙ МОСТ.
На Кузнецком в подъезде у марочного я робко купил рублей на пять марок и пешком, той же дорогой, вернулся домой.
Это был мой первый самостоятельный выход в город.
Я не люблю свое отрочество – и тогда не любил. Клаустрофобическое существование втроем на тринадцати метрах. Всегда на глазах. Мама, папа; постоянно бабушка, Вера. Хочу побыть дома один – не удается. Мама тащит за собой на Большую Екатерининскую. Я стараюсь изблевать из себя Большую Екатерининскую. Стараюсь мысленно отстраниться – и чтобы родные поменьше обо мне знали. Сам хожу только в школу. В школе томление и одиночество – не то, о котором я тщетно мечтаю дома. Спрятаться от чужих и родительских глаз и собраться с мыслями удается только в Удельной. Смутно брезжит, что скверно мне еще и потому, что рядом нет таких, как я, среды. Леня Летник и Шурка Морозов, и дачники сорок седьмого – не такие, с ними нельзя о главном.
Я осознал, что живу не так, и решил начать жизнь сначала. Может быть, с этого и зародился мой всегдашний психологический пэттерн: я стараюсь. Может, это наследственное: отец мой тоже старался. У него выходило лучше.
На переломе от семилетки к десятилетке направление намечалось скорей эстетическое: быть посвободней, жить покрасивей, брать повыше.
По утрам регулярно, как на разведку, я ходил – а освоив трамвай и троллейбус, и ездил – в центр. Упорно бродил в негустых серых толпах по серым улицам, рассматривал серые и посеревшие здания. Обжил несколько главных музеев – больше других привлекал Исторический. Простаивал в Академкниге у прилавка с историей.
В достаточно дружественную среду я без особых усилий вошел на Кузнецком Мосту. Искренний интерес и основанные на Ивере познания объединяли меня с людьми той же направленности. Некоторый опыт у меня имелся: папа нередко водил меня на Кузнецкий. Наличествовал и фундамент: в послевоеннный год мы приобрели юношеский Шаубек-Европа 1936 года – шесть тысяч марок за пять дореформенных сотен. И теперь иногда мой червонец мог быть равен червонцу серьезного коллекционера.
Сколько себя помню, я собирал монеты и марки. В моей новой жизни, при лучших филателистических предпосылках, выбор пал – окончательно – на нумизматику. В самом слове слышалось что-то изумительное.


Демобилизованные толкали трофейные марки кучами, коллекциями. Трофейных монет было сравнительно мало.
Сначала я собирал весь мир и окрестности. Потом, логично, только Россию – по Гилю. Вот моя тогдашняя дезидерата – что и почем я имел в виду достать и достал:
До 1 января 1950 г.
Рубли:
1 Цены после реформы 1947 года не изменились.
Откуда у меня брались деньги? Во-первых, папа верил в мою рассудительность/целесообразность приобретений и постоянно что-то подкидывал. Во-вторых, я никогда не тратился по пустякам – на мороженое, пирожки и т. д. – так что все наличные шли в дело. В-третьих, я относил к букинисту не необходимые книги, вплоть до сытинской детской энциклопедии. В-четвертых, загонял марки и неактуальные монеты.
В одно прекрасное воскресенье я пришел на Кузнецкий раньше обычного. Никого из считанных московских нумизматов еще не было, и ко мне направили мрачного мужчину в кожаном заграничном пальто. Мы удалились в привычный подъезд, и он из кисета высыпал в мои подставленные ладони несколько десятков тетрадрахм и другой крупной антики:
– Это афина, это Лисимах, это варварская царица [33].
То ли он сказал, то ли я придумал и сам поверил, – он вроде бы получил в Восточной Пруссии особняк и выкопал на огороде коллекцию. В кисете был только обмен.
Говорил он с непонятным акцентом, нес явную ахинею:
– Когда нужна монета, платишь рубель в год, до две тысячи пятьсот.
За деньги он не отдавал, меняться с ним было нечем. Он торопился, никто из серьезных нумизматов не подоспел. Мрачный человек ушел и как в воду канул. Наверно, с ним что-то случилось, может быть, загремел и монеты ухнули. Иначе в коллекционерской среде рано или поздно заговорили бы о таком чрезвычайном богатстве антики [34].
Монополистом на Кузнецком, моим ментором и поставщиком был Володька Соколов. По его словам, он кончил не то ГИТИС и пол-литинститута, не то литинститут и пол-ГИТИСа, до войны выпустил где-то в Поволжье книжку стихов. С войны вернулся хромая, с палкой. Какое-то время инвалидам позволяли бузить, и они, качая права, косты-лями били стекла битком набитых не впускавших трамваев:
Володька был этого сорта. Как-то я встретил его на Первой Мещанской – хромая, он несся во главе небольшой орды, помахивая оцинкованным ведром.
– Володя, куда?
– За пивом!
На Кузнецком Володька поднимал палку на разгонявших мильтонов.
– Я инвалид войны!
После энного привода недели на три сменил пластинку:
– Я теперь милиционэр. Меня пригласили режиссэром в клуб милиции.
Володька принципиально нигде не работал. Каждое воскресенье он толкался на Кузнецком, по будням дежурил в Историческом музее. Музейщики ни в чем не были заинтересованы и гнали его лениво. Володька перехватывал все, что приносили с улицы. Одна скупенькая старушка пригласила его к себе; покойный муж боялся попреков и божился, что больше полтинника за монету не платит. Володьке за бесценок достался бесценный материал.
Когда у него появлялось что-нибудь для меня, он звонил и в изысканных выражениях предлагал заглянуть.
Жил он неподалеку, на Первой Мещанской, в бывших меблированных комнатах – на восьми метрах с женой, сыном, тещей и тестем. Осатанев, он самовольно вселился в уборную – тоже метров восемь (в другом конце коридора была еще одна), – отключил воду, покрыл унитаз столиком, к стене приставил кровать. Под ней коллекция – деревянный ящик с пакетиками, даже из-под презервативов.