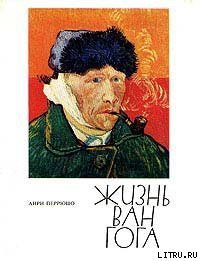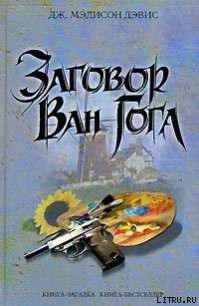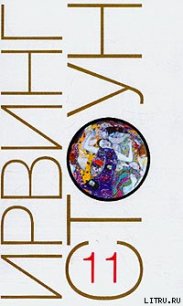Жажда жизни - Стоун Ирвинг (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
– Нищета губит человека.
– Да, она губит слабых. А сильных – никогда! Если вас погубит бедность, значит, вы слабый человек, туда вам и дорога.
– И вы пальцем не шевельнете, чтобы помочь мне?
– Нет, даже если я буду убежден, что вы величайший живописец в мире. Если человека могут убить голод и страдания, значит, он не заслуживает спасения. Только тем художникам место на земле, которых не может погубить ни бог, ни дьявол, пока они не сделали всего того, что должны сделать.
– Но я голодаю уже много лет, Вейсенбрух. Я жил без крова над головой, бродил под дождем и снегом почти голый, валялся в лихорадке, одинокий, покинутый. Все это я уже испытал, мне нечему тут учиться.
– Вы едва коснулись страдания, Винсент. Это еще только начало. Говорю вам, боль – единственное в мире, что не имеет конца. А теперь идите домой и беритесь за карандаш. Чем сильнее вы страдаете от голода и лишений, тем лучше вы будете работать.
– И тем скорее публика отвергнет мои рисунки!
Вейсенбрух весело рассмеялся.
– Ну конечно, отвергнет! Иначе и быть не может. И это тоже хорошо для вас. Это сделает вас еще несчастнее. А ваше очередное полотно окажется еще прекрасней, чем предыдущее. Если вы будете терпеть голод и лишения, а вашу работу станут поносить и презирать много лет, то в конце концов вы можете создать – заметьте, я говорю: можете создать, а не создадите – такое произведение, что его не стыдно будет повесить рядом с полотнами Яна Стена или...
– Или Вейсенбруха!
– Вот, вот. Или Вейсенбруха. Если же теперь я ссужу вам денег, я ограблю вас, лишу вас шансов на бессмертие.
– Провались оно к дьяволу, это бессмертие! Я хочу рисовать сейчас, здесь. И я не могу работать с пустим желудком.
– Чепуха, мой мальчик. Все стоящее было написано на голодный желудок. Когда ваше брюхо набито, вы работаете как бы на холостом ходу.
– Что—то не похоже, чтобы вы так уж много страдали.
– У меня богатое творческое воображение. Я могу достичь страдание, даже не испытав его.
– Вы просто старый лгун!
– Ничего подобного. Если бы я убедился, что пишу так же пресно и вяло, как Де Бок, я плюнул бы на свои деньги и жил бы как последний бродяга. Но факт остается фактом: я могу создать совершенную иллюзию страдания, но пройдя через него. Вот почему я великий художник.
– Вот почему вы великий хвастун! Слушайте, Вейсенбрух, будьте человеком и дайте мне двадцать пять франков.
– И двадцати пяти сантимов не дам! Вы что думаете, я шучу? Я о вас слишком высокого мнения, чтобы портить вас, одалживая вам деньги. Придет день, и вы напишете что—нибудь блестящее, если не спасуете перед судьбой; гипсовая нога в ведре у Мауве убедила меня в этом. Ну, а теперь ступайте да съешьте по дороге миску бесплатного супа в столовой для бедных.
Винсент молча посмотрел на Вейсенбруха, повернулся и пошел к двери.
– Постойте—ка! – окликнул его Вейсенбрух.
– Уж не хотите ли вы сказать, что сдаетесь и переменили решение? – насмешливо осведомился Винсент.
– Слушайте, Ван Гог, я не скряга, я поступил так из принципа. Если бы я считал вас дураком, я дал бы вам двадцать пять франков, чтобы отвязаться от вас. Но я уважаю вас, уважаю как собрата—художника. Я дам вам нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги. И я не показал бы этого никому во всей Гааге, разве только Мауве. Подойдите—ка сюда. Сдвиньте эту штору, откройте верхний свет. Вот так. Теперь взгляните на этот этюд. Вот как я намерен его разработать и разместить все на полотне. Господи боже, да что вы можете увидеть, если заслоняете окно?
Винсент вышел от Вейсенбруха через час, радостный и окрыленный. Он узнал за короткое время гораздо больше чем мог бы усвоить за целый год учебы в художественной школе. Он шел довольно долго, прежде чем вспомнил, что он голоден, болен, измучен, что у него пусто в кармане.
Через несколько дней, бродя по дюнам, Винсент внезапно наткнулся на Мауве. Если он еще надеялся помириться со своим учителем, то его ждало разочарование.
– Кузен Мауве, я хочу попросить прощения за то, что произошло в мастерской. Я поступил как глупец. Можете ли вы простить меня? Не зайдете ли как—нибудь ко мне посмотреть мои работы и поговорить?
Мауве отказался наотрез.
– Я к тебе больше никогда не приду.
– Неужели вы потеряли всякую веру в меня?
– Да, потерял. У тебя порочная натура.
– Если бы вы сказали мне, что я сделал порочного, я постарался бы исправиться.
– Мне теперь все равно, что ты делаешь.
– Я только ел, спал и работал, как всякий художник. Что же тут порочного?
– Ты называешь себя художником?
– Да.
– Какая чушь. Ты не продал ни одной картины за всю жизнь.
– Разве быть художником значит продавать картины? Я думал, что художник – это человек, который всегда ищет и никогда не находит. Для него не существует слов: «я знаю, я нашел». Когда я говорю, что я художник, это значит лишь: «я ищу, я стремлюсь, я отдаюсь этому всем сердцем».
– И все же у тебя порочная натура.
– Вы в чем—то подозреваете меня, это сразу видно, вам кажется, я что– то скрываю: «У Винсента какая—то тайна, которой он стыдится». В чем дело, Мауве? Скажите откровенно.
Мауве отвернулся к своему мольберту и стал водить кистью по полотну. Винсент медленно поплелся прочь.
Да, он не ошибся. Над его головой действительно собирались тучи. В Гааге узнали о его связи с Христиной. Первым принес эту новость Де Бок. Он пришел в мастерскую с гаденькой улыбкой на своих сложенных бутоном губах. Христина позировала Винсенту, и он заговорил по—английски.
– Ну, ну, Ван Гог, – сказал он, сбрасывая свое тяжелое черное пальто и закуривая длинную папиросу. – Весь город говорит, что вы завели любовницу. Я слышал это от Вейсенбруха, Мауве и Терстеха. Вся Гаага ополчилась против вас.
– А, так вот оно что, – отозвался Винсент.
– Надо быть осторожнее, старина. А это кто, натурщица? Мне казалось, я знаю их всех.
Винсент взглянул на Христину, сидевшую у печки со своим рукоделием. На коленях у нее лежала шерсть, глаза были устремлены на какой—то узор, который она вышивала, во всей ее фигуре было что—то необычайно уютное и милое. Вдруг Де Бок бросил папиросу на пол и вскочил с места.
– Бог мой, – воскликнул он, – неужели это и есть ваша любовница?
– У меня нет любовницы, Де Бок. Но я полагаю, что речь идет именно об этой женщине.
Де Бок сделал вид, будто вытирает пот со лба, и пристально взглянул на Христину.
– Не понимаю, как вы можете спать с ней?
– Почему это вас интересует?
– Мой дорогой, но ведь это какая—то старая ведьма! Настоящая ведьма! О чем вы только думаете? Не мудрено, что Терстех так шокирован. Если вам нужно завести любовницу, почему вы не взяли какую—нибудь миленькую натурщицу? Их так много в Гааге.
– Я уже сказал вам, Де Бок, что эта женщина мне не любовница.
– Так кто же она?
– Она моя жена!
Де Бок сложил свои губы так, что рот его стал похож на бутоньерку.
– Ваша жена!
– Да. Я на ней женюсь.
– Боже мой!
Де Бок еще раз с ужасом и отвращением взглянул на Христину и выбежал из мастерской, даже не надев как следует пальто.
– Что вы говорили там обо мне? – спросила Христина.
Скрестив руки на груди, Винсент секунду смотрел на нее.
– Я сказал Де Боку, что ты будешь моей женой.
Христина долго молчала, пальцы ее были заняты работой. Рот у все был приоткрыт, и в нем быстро—быстро, как у змеи, шевелился язык, облизывая пересохшие губы.
– Ты и вправду женишься на мне, Винсент? Зачем?
– Если я не женюсь на тебе, то честнее сразу же бросить тебя навсегда. Я хочу пройти через все радости и печали семейной жизни, чтобы изображать их по собственному опыту. Когда—то я любил одну женщину, Христина. Когда я пришел к ней, мне сказали, что я ей ненавистен. Моя любовь была настоящей, честной и глубокой любовью, Христина, и, покинув ее дом, я знал, что моя любовь убита. Но после смерти наступает воскресение; мое воскресение – это ты.