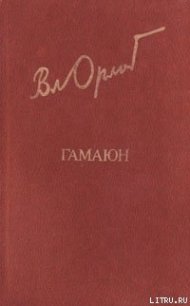Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материала - Немеровская О.
В. Зоргенфрей
Еще в 1915 году, среди разговоров со мной, он однажды неожиданно и не в связи с темой сказал: «А знаете, Александр Иванович, теперь все как-то не то… Не те зори, не такие закаты, какие были в 1905 году». Это было сказано с таким глубоким чувством, с такой убежденностью, что я невольно в ту минуту согласился с ним.
А. Типяков [96] . Памяти А. А. Блока
Жизнь моя, по тысяче причин, так сложилась, что мне очень трудно быть с людьми, за исключением немногих, что я смотрю на жизнь, что называется, мрачно (хотя я сам не считаю своего взгляда мрачным), что я не чувствую связей родственных; я знаю при этом, что дело мое, которое я делаю (худо ли, хорошо ли – я сам, как ты уже знаешь, вовсе не доволен собой), требует, чтобы я был именно таким, а не другим…
Вот ты говоришь «брат», а я не умею ответить тебе так же горячо и искренне, потому что не чувствую этого слова. Также со многими другими словами. Я знаю и верю, что все вы – Качаловы – милые, добрые и хорошие, и что ко мне вы относитесь более, чем хорошо, но я не умею ценить этого, несмотря на то, что мне приходилось сталкиваться с людьми просто очень дурными и злобными. Не умею ценить потому, что требую от жизни – или безмерного, чего она не даст, или уже ничего не требую. Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки – ужас, надолго непоправимый.
Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина может быть на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.
Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величава окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена, между прочим, в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где чорт говорит, что стыдно быть хорошим.
Письмо к С. Н. Тутолминой, урожд. Качаловой
В конце 1916 года вернулся я в Петербург ненадолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Леонид Николаевич звал меня принять участие в газете «Русская Воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской – и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это – газета протопоповская, и я отказался. Леонид Николаевич очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство – навсегда уже!
А. Блок. Памяти Леонида Андреева
Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Теперь особенно, после того, как я узнал (из Вашего письма), что сын Пяста умер: он – мой крестник. Пусть уж мной кончается одна из блоковских линий – хорошего в них мало.
Письмо к В. Н. Княжнину 6/ΙΧ-1915 г.
Одичание – вот слово; и нашел его – книжный, трусливый Мережковский. Нашел – почему? Потому, что он, единственный, работал, а Андреев и ему подобные – тру-ля-ля, гордились.
Горький работал, но растерялся. Почему? Потому что – «культуры» нет.
Итак, одичание.
Черная, непроглядная слякоть на улицах. Фонари – через два. Пьяного солдата сажают на извозчика (повесят?).
Озлобленные лица у «простых людей».
Слякоть вдруг пробороздит луч прожектора, и автомобиль пронесется с ревом…
Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и проч. Языка нет. Любви нет. Победы не хотят, мира – тоже.
Когда же и откуда будет ответ?
10 ноября 1915 г.
Из записных книжек А. Блока
Глава восемнадцатая
Война и революция
Дело в том, что при вспышке национальных чувств, которою сопровождалась «планетарная война», такое чувство вдруг сильно заговорило и в А. А. Блоке. Именно – голос отцов. Как известно, только дед (и прадеды с отцовской стороны) Блока были лютеранами; мать отца его – русская. Следовательно, немецкой крови в нем не более четверти. Тем не менее, эта четверть вдруг сильно сказалась в поэте.
Он не то чтобы «стоял за немцев» или «не принимал войны», – нет, он был убежден в необходимости для России начатую войну честно закончить. Но он был против союзников. Он не любил ни французов, ни англичан, ни как людей, ни национальные идеи этих народов. Бельгия ему сравнительно была дороже; он путешествовал по ней и по Голландии, и много отрадного вынес оттуда; сильнейшее впечатление оставил на нем праотец нидерландской школы – Квентин Массейс. Но я помню, как в жар и в холод одновременно бросила меня одна фраза А. Блока в начале войны: «Ваши игрушечные Бельгия и Швеция…»
Вл. Пяст
Первое свидание после объявления войны было по телефону. Меня удивил его возбужденный голос, одна его фраза «Ведь война —
это прежде всего весело». Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно. Страшило скорее, что он увлечется войной. Однако, этого с Блоком не случилось. Друга в нем, однако, и непримиримые не нашли. Ведь если наклеить на него ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти нельзя было. Это одно уже заставляло его «принимать войну».
Но от упоения войной спасала его «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность, рыцарское обожание, ведь она для него была тогда Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама».
3. Н. Гиппиус
В начале войны он ходил провожать эшелоны, с одним из которых, между прочим, уехал его отчим. В начале войны ему «казалось» минуту, что она очистит воздух – казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным.
В. Н. Княжнин
Александр Александрович усиленно хлопотал о том, чтобы освободить от призыва Княжнина, пристроив его на заводе. В конце концов это ему не удалось, помнится, он устроил это дело как-то иначе. Поговорив с неким вольноопределяющимся и узнав все условия службы, Саша пишет: «Из подробных его рассказов я увидел, что я туда не пойду. Таким образом, это отпадает, что предпринять, я не знаю; знаю одно, что переменить штатское состояние на военное едва ли в моих силах… Сегодня пойду к В. А. Зоргенфрею, который может что-то мне посоветовать. Писать (поэму), по-видимому, больше не удастся».
М. А. Бекетова
Мы в ночном притоне за кособоким столиком, на скатерти которого, по выражению Щедрина, «не то ели яичницу, не то сидело малое дитятко». И перед нами чайник с «запрещенной водкой». Улицы, по которым мы шли сюда, были все в мелком дожде. Продавцы газет на Невском кричали «о фронте», «о больших потерях германцев», «о подвигах казацкого атамана». И все это газетно, неверно, преувеличено ради тиража. На улицах холодно, сыро и мрачно. И мы – мрачны.