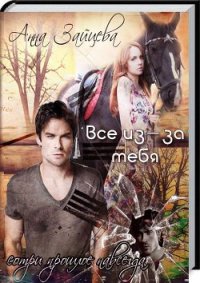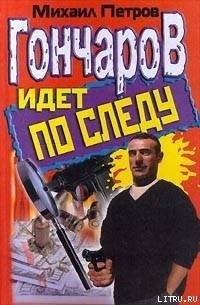Гончаров - Лощиц Юрий Михайлович (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
Река стала, и обломовский вопрос тем самым навсегда разрешился. Теперь уже до конца дней своих он знает лишь одно: не делать.
Штольц как-то в шутку, не без иронии, говорит Обломову: «Да ты философ, Илья!» Но между тем философия Обломова действительно существует, и, если приглядеться к ней внимательней, вещь это не шуточная. Ее истоки можно обнаружить в умозрениях, вокруг которых сплачивались некогда целые философские школы и направления. Строго говоря, философия Обломова есть философия абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия. Отсутствие движения, покой — вот, по Обломову, наиболее совершенное, идеальное состояние мира. Всякое умаление покоя, подтачивание его с помощью всевозможных движений, процессов неумолимо приводит к заболеванию, порче действительности. Движение — болезнь мира, лихорадка и жар материи, судорога духа. То, чему нужно двигаться, несовершенно. Совершенное незыблемо и недвижно. Оно полно самим собой, счастливо самим собой и не имеет нужды выходить из этой полноты. Это и есть для Обломова настоящая, истинная жизнь. Покой — гармоническое равновесие бытия. Свойство покоя — не расслабленность и аморфность, а, наоборот, избыток силы, полный заряд энергии. Совершенная жизнь ничего уже не хочет, ничего не вожделеет, ни к чему не устремляется. Все же остальное — не стоящая на месте, а значит, ненастоящая, нестоящая, томимая болезнью жизнь. В ней только похоть и раздражение материи, мучительный зуд выйти из самой себя, приткнуться к чему-то большему, высшему, абсолютному.
Может быть, Обломов в учебных заведениях отчасти слышал, может, прочел кое-какие книги, может, сам, своим умом дошел — как бы ни было, его понятия об идеале существования вызывают целую гамму ассоциаций: тут и учение древнегреческих философов-киников об автаркии,то есть духовном самодовлении, полной освобожденности от физических и умственных усилий; тут и принцип безразличия (адиафория),развитый другой ветвью античного сократизма — киренаиками; и учение об апатии— бесстрастии, — популярное в так называемой мегарской школе философов. Может быть, после этого нам понятнее станет, почему Гончаров называет своего героя «обломовским Платоном».
«Целый», «полный» человек, об отсутствии которого так часто сожалеет Илья Ильич, вырисовывается только на пути к покою — внутреннему и внешнему. В каком-то необычном для него припадке вдохновения Обломов вопрошает Штольца: «Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?»
Но на это собеседник его трезво возражает: «И утопия-то у тебя обломовская».
Философию Обломова действительно можно назвать утопической. Хотя бы потому, что в ней, как и во всякой утопии, преобладает не рассмотрение бытия, имеющегося в наличии, а — через отталкивание от действительности — мечта об ином бытии.
Что ж, Обломов может быть отнесен к наиболее застенчивым и непритязательным из всех известных человечеству утопистов. Его требования, обращенные к будущему, — самые минимальные: пусть все угомонится, успокоится. В обломовский «план» входит лишь деревенское поселение, растворенное в окружающей природе. В таком поселении и правда нужно кое-что подновить, но самую малость. Счастливое будущее мыслится кап возвращение к счастливому прошлому легендарно-мифологических эпох. А для этого не нужно никаких грандиозных мероприятий: ни строительства гигантского града, в котором уместилось бы все человечество, ни летательных аппаратов, ни других хитроумных механизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связывающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурье…
Штольц досадует:
«— Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни — сидеть на месте? По-дадим-ко, Илья, проект, чтоб остановились; мы ведь не поедем».
Но Штольцева ирония нисколько не расхолаживает Обломова. А что же! Почему бы и не подать такой проект! Тогда, глядишь, и угомонятся народы, и отдохнут по-настоящему: если упразднить пароходы с паровозами, то выйдут рабы на волю из шахт и штолен, перестанут ранить землю в поисках угля и руды, бросят свои лачуги в грязных городах; замрет буйная торговля, отощают кошельки у ротшильдов, закроются водочные монополии, угаснут страсти к приобретению новых земель, повыведутся наполеоны, поубавится туристов — охотников глазеть на заморские дива, а с ними и болезней поубавится; оживут нивы, восстанут леса, выхлестанные на шпалы и на топку паровых котлов… Словом, по Обломову, нужно не. строить, а потихонечку размонтировать уже понастроенное, притормаживать механический разгон, осаживать железного зверя…
Конечно, мечтания такого рода носят вполне, так сказать, реакционно-утопический характер. Будущее время в обломовском «плане» — восстановленное, очищенное от коросты цивилизации прошлое.
В этом смысле можно говорить, что его утопия вообще лишена будущего. Перед нами типичная антиутопия, в которой и намека нет на футурологический порыв. Будущее ей и не снится. Прикованный к подушке золотыми цепями своей грезы об утраченном рае, Илья Ильич в тонком сне творит одну из самых беззащитных, хотя по-своему и обаятельных, идиллий, которые когда-либо грезились человеку: все здесь миниатюрно, маломасштабно, провинциально, и в то же время в мечтах нашего лежебоки заявляет о себе, по словам выдающегося современного литературоведа M. M. Бахтина, «исключительная человечность идиллического человека Обломова и его «голубиная чистота».
Пройдет несколько лет, и на той же самой Гороховой улице, где видит свои райские сны Илья Обломов, волею другого сочинителя будет поселен еще один литературный персонаж — Вера Павловна. Этой героине романа-утопии Чернышевского тоже будут сниться сны-мечты. Но обращенные не в прошлое, не к идиллической обстановке помещичьего быта, а в совершенно противоположную сторону: там, над зеленью лужаек, вырастают сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то воздушных зданий — то ли фабрик, то ли общежитий, и в них счастливые, весело поющие во время работы труженики будущего.
Как знать, не намеренно ли автор «Что делать?» поселил Веру Павловну именно на Гороховой? По крайней мере, о том, что Чернышевский по отношению к роману Гончарова испытывал чувство некоторого полемического раздражения, известно достоверно. Сидя в Петропавловской крепости, Николай Гаврилович записывает: «Я до сих пор прочел полторы из четырех частей «Обломова» и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиною; разве опять примусь [за] рецензии, тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом». Подразумевается: роман неимоверно скучен. Но важная деталь: «полторы» части все же прочел. А именно в этих полутора — лежание Обломова на Гороховой улице, его «Сон», мировоззренческий спор со Штольцем, во время которого Илья Ильич, как бы комментируя «Сон», разворачивает «план» идеальной жизни. Вот и напрашивается предположение: не «скукой», а самим содержанием обломовских грез раздражило Чернышевского чтение «Обломова». Не в этой ли реакции источник ярко выраженной футурологичности снов Веры Павловны?
Возможность этой внутренней полемичности одного романа по отношению к другому может быть подтверждена не только содержанием снов, которые видят на Гороховой улице герои Гончарова и Чернышевского, но и тем, как эти герои по-разному «распоряжаются» своими снами. Вера Павловна со страстью и энергией принимается за то, чтобы реализовать воспламенившие ее видения в действительности. Наоборот, Обломов желал бы всю действительность охватить прекрасным сновидением, уместить ее в нестеснительных границах «сонного царства». Ибо почти все, что происходит в реальной жизни, кажется ему дурным сном, от которого необходимо поскорее избавиться. Разве живутвсе эти торгующие, воюющие, строящие и ломающие, снующие из дома в дом, из компании в компанию, из города в город, из страны в страну люди? Нет, они не живут, а барахтаются в вязких путах какого-то кошмарного сна. Их жизнь и есть горький сон, мираж, призрак, морок, тень истинного бытия. Нужно стряхнуть с себя призрачные путы, подняться, открыть глаза. «Душе моя, душе моя, востани, что спиши?» — как призывал древний автор.