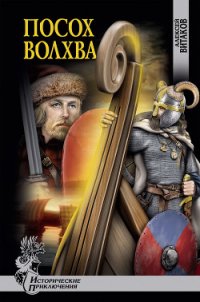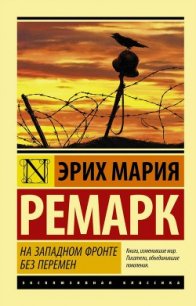От Сталинграда до Днепра - Абдулин Мансур Гизатулович (читать книги полностью .txt) 📗
Из наших хлопцев, которых по инвалидности увольняли из армии, многие остались жить и работать в Павлове… Город был небольшой, опрятный, мастеровой. Работы много. Оставались, женились и были счастливы.
Однажды среди шефов я увидел девушку. У меня внутри все оборвалось и перевернулось. Пока она была в нашей палате, ее глаза несколько раз останавливались на мне. Я смотрел на нее и своими глазами говорил ей, что я всю жизнь искал ее. Она меня поняла и отвечала примерно тем же. Я был уверен, что она подойдет ко мне если не сегодня, то в следующий раз обязательно.
А поздним вечером в нашей палате разгорелся сыр-бор. Оказывается, эта девушка с пшеничными волосами задела всех. Говорили, что у нее глаза еще голубее, чем у нашей Аллы. Говорили, какая у нее необыкновенно белая кожа. Гладкая, но не блестящая, а матовая, нежная… Я молча ревновал к этим разговорам, лежал и терзался. Передо мной стояли два лица: Аллы и этой девушки-шефа. Кого из них мне выбрать? Обеих люблю! Сердце мое колотится тревожно и разрывается пополам… Горе ко мне пришло совершенно неожиданное!
Немного приостыл я только потому, что я им еще не признавался в своей любви. Может быть, я им вовсе и не нравлюсь, а я уже не знаю, какую выбрать! «Дурак ты, Мансур!» — на этом я успокоился, но уснул только под утро.
Алла пришла в нашу палату утром хмурая. Измерила всем температуру, записала и ушла, даже не посмотрев на меня. Потом еще раз пришла и поправила чуть-чуть мне бинт. Хотела уже уйти, но все же не удержалась и сообщила, что одна девушка из шефов спрашивала, кто я такой, откуда и не женат ли.
Алла смотрела на меня в упор. Вопросительно смотрела. А я отвел глаза… Она тихо ушла.
Мне стало дурно — до тошноты. За что же на меня тут, в глубоком тылу, на чистой кровати, навалились такие муки и казни?! Все мои внутренности горят от переживаний. Хуже, чем на фронте! Зачем же это сначала вошла в меня Алла, а потом эта девушка? Почему не явилась ко мне сначала она?! И была бы она у меня одна-единственная, и уже не надо бы мне было больше никого…
И вот наконец, через неделю, снова день посещений. Шефы принесли нам соленых груздей, клюквы. Пришла девушка с пшеничными волосами и от самых дверей смотрит на меня! Не знаю, как себя вести теперь. Я ведь не могу расстаться с Аллой! Алла в тот вечер не дежурила, но присутствовала, никем не видимая, кроме меня одного. А девушка-шеф осторожно отстранила воображаемую мной Аллу и приближается ко мне. Алла растворилась и исчезла совсем.
— Мансур, здравствуй! Меня зовут Людмилой. Ты рад видеть меня?.. А я всю неделю думала о тебе… — Она волновалась и говорила, а я слушал и не верил своим ушам и только моргал поглупевшими глазами.
Людмила шепотом рассказывала мне о себе, о городе, об Оке… Моя голова кружилась… Я узнал, что Люда работает при госпитале в интендантском отделе, что уже десять заявлений писала в горвоенкомат, чтоб отправили ее на фронт, но она должна закончить сначала курсы медсестер. Осталось учиться три месяца.
Я не хотел, чтобы она уходила. Я боялся потерять Людмилу с этой самой минуты! В палате у нас присмирели от такого неожиданного поворота дела: ее прочили кому угодно, но только не мне…
А меня ждала третья операция. Главный врач-женщина сама мне объяснила ее цель:
— Надо теперь сшить седалищный нерв, который перерезан осколком. Проводимости нерва пока не будет, но так положено.
И опять повезли меня в операционную. Везли меня и Алла, и Людмила. Людмила в операционную не вошла, а осталась в коридоре. Она моргнула мне на прощанье и улыбнулась. Алла от меня не отходила. И опять заныло в груди: которую же я люблю?..
Опять скрутили, согнули, навалились… На этот раз долго не могли попасть иглой в нужное место, и пришлось мне терпеть несколько уколов, пока наконец нижняя часть тела не онемела. Потом действие анестезии кончилось, а операция продолжалась… Орать я не мог: у изголовья Алла, за дверями Людмила, так что худо мне пришлось на этот раз. Всего на рану наложили пятьдесят швов. Людмила ждала меня в коридоре. Я из последних сил ей моргнул и показал большой палец: мол, все хорошо…
Она приходила ко мне в палату каждый день, практиковалась на мне. Накладывая мне повязку на руку, на ногу, на голову или грудную клетку, она смеялась, шутила, а я готов был круглые сутки исполнять роль манекена…
Я почувствовал, что между мной и моими друзьями подуло холодком.
— И ничего в Людмиле нет хорошего!
— Хозяйкой и матерью ей не бывать. Слишком красивая, с ней дом не построишь…
— Зря ты, Мансур, забиваешь себе голову Людмилой. Она годится в жены генералу. А ты кто? Пять минут как младший лейтенант…
Так рассуждали все, кроме моего соседа-азербайджанца.
Яролиев завидовал мне по-хорошему и гордился мной. Он приставлял к своему горбатому носу большой палец, а остальными, растопыренными, крутил и дразнил всех…
А один пожилой уже офицер, долго молчавший на все на это, сказал так:
— Я знал, что Людмила станет дружить с Мансуром. Женщины любят мужчин скромных и честных. А вы кто такие сейчас? Пи-ки-ров-щи-ки! Охотники до любовных приключений!
Он очень насмешил всех нравоучительным тоном, и меня тоже. Я к этому времени уже понял, что хлопцы просто отходят душой после ужасов фронта. Что в рассказах «пикировщиков» больше озорного вымысла, чем правды, и, конечно, каждый в душе мечтает о единственной…
В госпитале я тоже, случалось, пел. А когда, бывало, нарисую девичий портрет, который так похож — и красивей чуть-чуть! — то следствием всего этого была влюбленность «до гроба».
В палате всем своим друзьям я нарисовал их портреты и тем уничтожил холодок, возникший в наших отношениях. Я прослыл среди них хорошим художником…
«Храни меня, мой талисман…» Каким-то непостижимым чутьем я угадывал, что моя судьба ждет меня дома. Я не знал еще имени этой судьбы, не знал, какие у нее глаза… но знал, что она где-то там… Единственная, которую я сразу узнаю, которую я ни с кем не спутаю…
По земле шел апрель 1944 года. За те пять месяцев, что я провалялся в госпиталях, наши войска полностью освободили Право-бережную Украину. Бои шли теперь за окончательное освобождение нашей Родины от гитлеровских захватчиков. Вот-вот погоним — и уже начинаем гнать! — врага на его собственную территорию!..
«Кто сейчас комсорг в нашем батальоне? — думал я с ревнивым чувством. — Кому после меня комиссар полка сказал эти обжигающие слова: «Жизнь комсорга длится в среднем от одной атаки и до двух-трех…» Жив ли сам комиссар?.. Кто еще остается живой из наших хлопцев?»
Рана на моей ягодице зажила, и медицинская комиссия признала меня годным для отправки на фронт. Но мне, бывшему добровольцу, уже не хотелось воевать — навоевался досыта и до рвоты! Принесли мне мое обмундирование: «Торопись! Через полчаса эшелон отправляется на фронт!»
И вот случилось невероятное: мой сосед по палате, тоже признанный «годным», пригласил майора — члена медвоенкомиссии к нам в палату и заявил: «У младшего лейтенанта перебит левый седалищный нерв, и он не годен к боевой службе. Прошу вас — проверьте». Майор приказал мне раздеться и, осмотрев, убедился в том, что моя нога отвисла как тряпка и не чувствует уколов. Так совсем незнакомый мне военврач спас меня от верной гибели, так как я уже был фактически без одной ноги, на которой не держался сапог. Но, когда СССР объявил войну Японии, меня, как годного к боевой службе, опять медкомиссия при райвоенкомате решила отправить на войну как опытного фронтовика и боевого офицера. Мне было стыдно доказывать, что у меня нога хоть и целая, но мертвая. Я боялся, что мне, коммунисту, могут приписать трусость. Но одна пожилая женщина — врач-невропатолог — заявила авторитетной медкомиссии: «Я не позволю вам отправлять на войну этого инвалида с отвислой ногой!» Так я был еще раз спасен от смерти…
С того дня, как мы с Колей Коняевым, Иваном Ваншиным и Виктором Карповым добились «из-под брони» отправки на фронт и я уехал из Бричмуллы в Ташкентское пехотное, прошло почти два года… Да неужели всего два?! Кажется, что целую отдельную жизнь прожил. Отвоевал на четырех действующих фронтах… Сталинград… Курская дуга… Битва за Днепр… Левобережная Украина… Правобережная Украина…