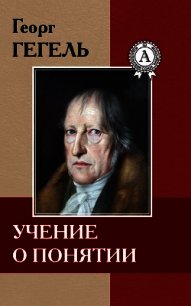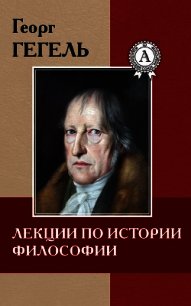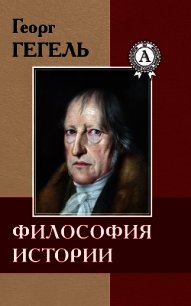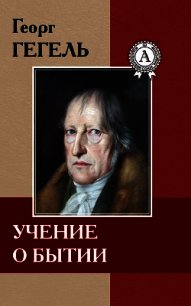Гегель. Биография - Д'Онт Жак (читаем книги .TXT) 📗
Идеализм определяет себя по отношению к своим противникам. Кто они такие, в конце концов, — Круг, Шульце, Кант, Фихте, Якоби, — если не идеалисты, когда их всех оптом сравнивают с материалистами? Современному читателю, любителю рискованных сближений, эти споры или дискуссии, в которых каждый — и Гегель больше всех — старается заставить другого проговориться, высказать нечто, что он либо скрывает, либо не очень осознает, и, стало быть, показать ему самому и всем прочим его истинное лицо, это «выведение на чистую воду» порой может показаться каким‑то концептуальным препирательством, столь же малопривлекательным, сколь непривлекательно препирательство обыкновенное. Пытаясь сорвать со своих противников маску, надетую ими не по своей воле, Гегель не оставляет искушенному уму сомнений в том, что сам он давно укрылся за маской, которую никому с него не сорвать.
Текст «Веры и знания» метит выше прочих. Разделавшись с мелкой сошкой, Гегель нападает на трех действительных конкурентов, единственно достойных рассмотрения, и действительно грозных по причине основательности их идей и известности — Канта, Фихте и Якоби. Вот это противники! Все трое еще живы, деятельны и продуктивны, и Гегель противопоставляет в целом идеализм тому, что он несколько искусственно объединяет под категорией «рефлексивной философии субъективности». Он обвиняет их совокупно в том, что их труды — плоды с древа Просвещения, которому они в глубине души остаются верны, хотя каждый по — своему. Но разве он сам в каком‑то смысле тоже не должник Aufklärung?
Он упрекает их в том, что подлинного метафизического обращения с ними не случилось, они не признали, что абсолют это Бог, а не человек. Смысл слова «Бог» в этом контексте остается довольно загадочным. Согласно Гегелю, указанные философы ограничивают разум формой конечности, формой общего рассудка. Им удается выработать одно лишь понятие, которое, будучи получено из конечного путем абстрагирования, само необходимо остается абстрактным и пустым, стало быть, немым, если только не набраться храбрости и заставить его говорить что попало.
Сам он, конечно, достиг подлинного понятия, поскольку таковое как раз и являет собой единство конечного и бесконечного.
Однако — и этот момент развития лучше всего обнаруживает особенность его мышления — Гегель не ставит крест на этих трех важных и представительных учениях. Ловкий тактик, он умеет так систематически и исторически соотнести их друг с другом, что они образуют тезис, антитезис и синтез. Таким образом, ему удается показать, что этот «рассудочный идеализм», движимый своими внутренними различиями, продолжается как некий диалог или дискуссия с самим собой, вставая на путь самопревосхождения, обращения во что‑то иное, что неминуемо приходит на смену, — в абсолютный идеализм.
Дух проходит через различные неустойчивые состояния, как через чистилище, к неминуемому, предначертанному освобождению. Чтобы сказать об этом, Гегель пользуется языком религиозной мистики, парадоксальным, околдовывающим, сомнительным: «[…] Тому, что еще ограничено то ли нравственной заповедью принесения в жертву эмпирического существа, то ли понятием формальной (formeller) абстракции, чистое понятие должно придать философское существование и, следовательно, внести в Философию идею абсолютной свободы и, тем самым, абсолютного Страдания, или духовной Великой пятницы, которая когда‑то случилась в истории; и он должен восстановить его во всей истине его дления…» [189].
И несколько отходя от полемической формы, помогшей ему вчерне обозначить собственную позицию, он стремится обзавестись более систематично разработанной структурой и делает это, в частности, в последней из статей, помещенных в «Журнале». Конечно, и здесь продолжается размежевание с ближайшими предшественниками в философии и современными ему конкурентами, но он также воспроизводит на свой манер идеи и тенденции великих философов — идеалистов прошлого: Платона и Аристотеля. Так, поверх столетий воссоединяется он с традиционной метафизикой и — в полемике с критической философией — с античной мыслью.
Это длинная статья, появившаяся во второй и третьей тетрадях второго тома под названием «Два способа трактовки естественного права; о его месте в практической философии и отношении к позитивным наукам о праве».
Не отказываясь от резкой критики противников, Гегель больше занимается здесь позитивной разработкой этики, права и философии, основанной на идее господствующей, живой, абсолютной Sittlichkeit. Он стремится восстановить мораль в отношениях между индивидуумом и государством по примеру отношений, на которых, как ему кажется, базировался античный полис. Он дает идеализированную картину последнего; в нем, дескать, объединены, по греческой формуле, прекрасное и доброе. Возможно, он немного спешит примирить в своем проекте жестоко разошедшиеся в реальности единичное и всеобщее: «Нравственная жизнь отдельного индивида есть биение пульса системы в целом и даже сама система в целом» [190].
Можно считать, что в этой статье Гегель отдаляется от Шеллинга решительнее, чем в других и, в частности, вручает пальму первенства философии духа, а не инспирированной духом философии природы.
В йенской философии царит атмосфера схватки, Гегель сражается сразу и за истину, и за место под университетским солнцем. Студенты, должно быть, со смесью восхищения и ужаса взирали на мэтра, жаждущего всеобъемлющей победы. Как говорит Макс Ленц, тайна успеха Гегеля — это «его безграничная вера в возможность безупречной системы» [191].
Но именно в такой вере и нуждались студенты, обращенные в скептицизм предыдущим преподаванием и предшествующими событиями.
Верхом на стуле в своем рабочем кабинете, как Наполеон на коне, Гегель может обозревать усеянное трупами поле философских баталий. Пришло время воскрешать и созидать.
Для этого у него есть интеллектуальное орудие, которое он отточит, значительно усовершенствует в Нюрнберге, в Гейдельберге: странная и глубоко модифицированная, гибкая логика, в сущности, целый аппарат, очень хитроумно устроенный и изощренно действующий, — диалектика. Конечно, это не его изобретение, и он всегда будет приписывать заслугу первых догадок о ней и попыток использования древним, главным образом, Гераклиту, затем Платону и Аристотелю, кое — кому из новых мыслителей.
С одной стороны, он целеустремленно вводит ее в действие, с другой — кодифицирует и систематизирует, открывает все ее импликации, и, кроме того, возвращает современникам вкус к ней. Он пытается, немного парадоксально, превратить этот живой способ мышления, стихийно согласующийся с реальной жизнью, в метод, допускающий точное определение, строгий, доказуемый и передаваемый другим.
В самой простой и наиболее скромной формулировке, за которой видны, однако, поразительная глубина и сложность, речь идет, прежде всего, о поиске и открытии во всякой единой реальности, материальной или духовной, живого противоречия, ее одушевляющего и томящего, должного разрешиться преобразованием реальности в целом.
В этой связи Гегель иногда дает определения, на вид очень простые, но их объяснение занимает множество страниц: «Знать противоречие в единстве и единство в противоречии — это и есть абсолютное знание: и наука состоит в знании полного саморазворачивания этого единства» [192].
Обширная программа!
Такая форма мышления требует всеобъемлющей, всеохватной, унифицирующей всякое различие системы, и, стало быть, предполагает философский монизм, в каком бы обличьи последний ни выступал. Гегель задумал его стихийно и изначально в идеалистической перспективе, в которой вся конечная реальность понимается как идеальная (idéelle), но тем не менее во многих жизненных и теоретических ситуациях он демонстрирует самый крепкий реализм, самую позитивную интеллектуальную деятельность, и даже временами эпизодический и частичный материализм.