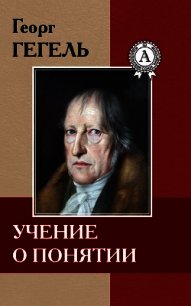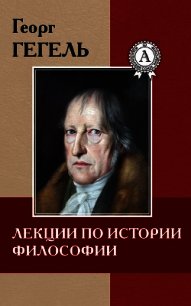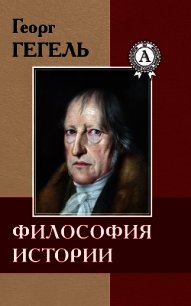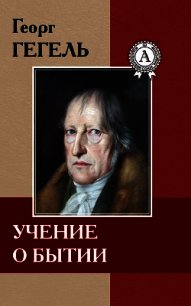Гегель. Биография - Д'Онт Жак (читаем книги .TXT) 📗
Занимаясь здесь не столько теоретическим содержанием произведений Гегеля, сколько жизненными обстоятельствами, как психологическими, так и внешними, работы над ними, мы вправе задаться вопросом, почему тридцатидвухлетний Гегель не опубликовал ни одного из них. Возможно, что‑то его беспокоило в теоретическом плане. Несомненно, он ощущал несовершенство сделанного в сравнении с обширным замыслом, все еще маячившим впереди как неясная цель и одушевлявшим его увлеченные поиски.
Ему бы не хотелось, чтобы его справедливо упрекали во фрагментарности, в недостатке воли к систематизации.
Кроме того, вероятно, он считал недостатком свою зависимость, все еще сильную и слишком очевидную, от мысли Шеллинга. К тому же, шумный успех его друга мог породить в нем некую боязнь появления перед публикой. Он чувствовал, что ему самому еще не все ясно. Но может быть, просто не нашелся издатель для рукописей, которые могли показаться темными и малопонятными?
Ответить на эти^ вопросы тем более затруднительно, что после 1802 г. в Йене Гегель, из которого била фонтаном творческая энергия, все же обнародовал ряд важных текстов. В этом ему существенно помогло основание, совместно с Шеллингом, но под руководством последнего и благодаря его известности, «Журнала философской критики» (Иена, 1802–1803 гг.). Никому так хорошо не служат, как самому себе, и лучший способ получить доступ на страницы журнала — это руководить им. В «Журнале философской критики» публиковались только статьи его основателей и руководителей. Спрашивается, как такое издание могло материально выжить? Вполне очевидно, что оно нуждалось во внешней поддержке, но с чьей стороны? Два тома, по три тетради, вышли один за другим.
В первой из них помещена статья Гегеля, довольно короткая в сравнении с остальными «О сущности философской критики вообще, и о ее отношении к современному состоянию философии, в частности». Статья представляет собой своего рода введение в «Журнал» и одновременно в новую философию, привилегированным органом которой он и становится.
Оба друга невероятно, до неприличия заносчивы, такими они, по крайней мере, выглядят в глазах коллег- философов, которые либо старше их, либо им ровесники. Заносчивость объясняется искренней убежденностью в собственном абсолютном превосходстве!
Они полагают, что речь идет не только о том, чтобы разорвать (Zerschlagen) путы, которыми, на их взгляд, повязаны другие философии, но и о том, чтобы расчистить (Wegebereitung) путь к торжественному и радостному триумфу единственной истинной философии — их собственной [185].
В том, что чистка будет немилосердно жестокой, у Гегеля уже нет никаких сомнений, он пишет Хуфнагелю: «Виды оружия у нашего журнала будут самые разнообразные, вот они: дубина, кнут и линейка. И все во имя благого дела и к вящей славе Божьей. Конечно, возопят и тут, и там, но без суровых мер не обойтись» (С1 67).
Это уже не драка, а методичное избиение.
Гегель клеймит без разбора все ошибочные или устаревшие, соперничающие между собой философии, дабы противопоставить им во всем ее блеске юную рождающуюся истину, саму себя провозглашающую, уверенную в себе.
Он совсем не отдает себе отчета в том, что, обращаясь к философиям в таком язвительном тоне и выставляя такого сорта аргументы, и он, и они пребывают в одной и той же эпистемологической, культурной и исторической плоскости — в плоскости догматической конфронтации.
В другой статье «Как здравый смысл понимает философию. По поводу произведений Круга» Гегель ополчается на мыслителей, представляющих на его взгляд «популярную философию», и в первую очередь, на одного из них, ставшего для него козлом отпущения, Вильгельма Трауготта Круга. Гегель апеллирует к новому критерию истины — доступности исключительно избранным. Истина не шатается по улицам. Она сохраняет себя для нескольких высших душ: «Философия по своей сущности являет собой нечто эзотерическое, она создана не для толпы и не обязана быть ей доступной; философия, она только тогда философия, когда именно противопоставляет себя рассудку (Verstand), и тем самым еще больше здравому смыслу […]; мир философии есть мир в себе и для себя, мир перевернутый (verkehrte Welt)… Фактически философия должна оставить народу возможность подняться до себя, но она не должна опускаться до его уровня», и т. д. [186]
Гегель часто будет поступать вопреки этому своему первоначальному решению в пользу эзотеризма. Но, по крайней мере, он высказался…
Памфлет, обращенный к профессору Кругу, безжалостен и очень груб по тону. У потомков на памяти, прежде всего, шуточки Гегеля по поводу вызова, брошенного Кругом спекулятивной идеалистической философии: вы, дескать, в состоянии дедуцировать из мысли решительно все, так дедуцируйте, пожалуйста, мое перо. Ответ Гегеля прячется под покровом иронии. Это, кстати, одна из вечных проблем идеализма — каким‑то образом, «не произвольно, и не предоставляя дело случаю…», обеспечить внутри философии необходимости место для случайных вещей и событий. Аргументация Гегеля опасно граничит с пошлостью, когда в ответ на замечание Круга он заявляет, что спекулятивная философия по сути своей такова, что способна к дедукции не только пера, но и железа, из которого оно сделано.
Но разве Кант в оправдание эмпирического реализма требовал от абсолютных идеалистов чего‑то большего, чем дедукция одного только пера? Без чувственной интуиции понятия остаются пустыми.
Тем временем именно фигура Круга мнится Гегелю легкой добычей. Он продолжает сражаться с ним во второй тетради «Критического журнала», заходя с другой стороны. Статья называется «Отношение скептицизма к философии, описание его различных модификаций, а также сравнение всего новейшего скептицизма с древним» (1802).
Здесь объявленный противник — это, прежде всего, Готтлоб Эрнст Шульце, заслуживающий внимания философ, опубликовавший в 1792 г. книгу под названием «Энесидем», в которой приводил доводы в пользу скептицизма, главным образом его форм, унаследованных от античности, и выступал против критической кантовской философии. И вот теперь, в 1802 г., он опубликовал новое произведение, первый том «Критики теоретической философии».
Гегель действует методом амальгамы, как сказали бы ныне. Он отбирает наперед то, что считает общим в философиях Круга и Шульце: оба не понимают сущности идеалистической философии и уводят от нее своих читателей и последователей: «Так, поскольку крайности сходятся, они, со своей стороны, вновь достигают высшей цели в эти счастливые времена, догматизм и скептицизм встречаются у подножия лестницы, протягивая друг другу дружескую, братскую руку. Скептицизм г-на Шульце соединяется с самым примитивным догматизмом, и догматизм Круга предполагает в то же самое время этот скептицизм» [187].
Даже материализм не ошибается так грубо, как ошибается Шульце [188].
Таким образом, Гегель довольно изворотлив в полемике. Он ведет войну, применяя стратегию политиков и военачальников: поражает врагов одного за другим, разделив их поначалу, как Гораций Куриациев, или при удобном случае выбрасывает всех вместе, невзирая на явные различия, на одну свалку. Есть в этом что‑то наполеоновское. Но делают ли честь такие маневры трансцендентальному идеализму?
В первой тетради второго тома «Журнала» Гегель публикует важную работу, также отважно нацеленную на врагов, которых абсолютный идеализм сам же себе и назначил, «Glauben und Wissen», «Вера и знание».
Ведя себя так, Гегель старательно изо всех сил выгораживает себе территорию, отмежевывая собственную философию от других форм идеализма. Это было актуально, потому что большинство философов эпохи, сами того зачастую не желая и не отдавая себе в этом отчета, эволюционировали примерно в том же направлении.