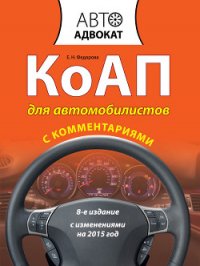На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
Ах, эта комнатка-кладовушка в моей столовой! За весь лагерный срок это была моя единственная индивидуальная «кабинка», как называли в лагере такие закутки. В то время я еще не была способна оценить это наивысшее счастье – иметь свой собственный угол. Я еще не знала и не понимала, что такое лагерь. А после мне уже никогда не довелось обладать такой «кабинкой». Правда, много лет спустя, когда я жила и работала в больнице Усольлага, мы с моей дорогой подругой Катей Оболенской устроили себе кабинку на чердаке терапевтического корпуса, но нас очень скоро оттуда «вытурили», не дав насладиться свободой и отдохнуть от общего барака…
Иногда на верфи бывали настоящие праздники, которые и мы искренне воспринимали как торжество. Это случалось, когда спускали на воду лихтеры или другие суда, построенные на верфи. Правда, мы не разбивали бутылки шампанского вслед соскальзывающему в воду судну, но в любом случае все происходило очень торжественно.
Все население лагеря высыпало на берег, приезжало обычно из Медвежки какое-нибудь начальство, и бывала даже музыка – самодеятельный оркестр из нескольких музыкантов. Распорядитель спуска отдавал команду: «Руби ряжи!» – и желтая, сверкающая новизной и солнечным блеском огромная деревянная посудина начинала боком тихонько скользить со стапелей. Потом все быстрее и быстрее по смазанным жиром слегам – и вот уже лихтер ухает в воду, подняв крыло искрящихся брызг.
– Урра! – гремит на берегу.
Все радостно взволнованны, все горды – ведь это наше судно! Наше! (Я вычерчивала его шпангоуты! А я рассчитывал его осадку! А я строгал килевую балку!) Как будто мы не были кучкой несчастных людей, незнамо-неведомо почему, по каким законам оторванных от своих близких, от своих других дел, которые мы и знали, и умели, и любили, и прекрасно делали «там», на воле! Нет, об этом не думалось в ту минуту, когда красавец-лихтер – плод нашего «здешнего» труда – плавно покачивался в поднятой им же самим волне…
Но однажды судьба решила напомнить нам, кто мы такие со своей «производственной» гордостью. Отмечался вот такой же торжественный спуск лихтера. Было синее небо и солнце. Приехало начальство, звучала музыка и оркестр заиграл туш, когда лихтер, плавно скользящий по косым слегам, вдруг встал на полдороге. Остановился – и все тут! Может быть, смазочное масло оказалось плохим, а может, что-нибудь недорассчитали. Одним словом, лихтер замер и не двигался с места.
Нестройно, не в лад замолк смущенный оркестр. Забегало наше лагерное начальство, засуетились сотрудники КБ. На главного инженера (судостроителя с «именем») жалко было смотреть. Он краснел и бледнел, руки у него тряслись, как, вероятно, тряслись бы на допросе. Ведь тут были «сами» из Медвежки, из управления!
…Пронеси, господи, что-то будет?! Господь не пронес. Пробовали двинуть лихтер «плечом», но посудина сидела прочно и не двигалась. Заново смазали слеги – никакого эффекта. Тогда подвезли толстенные тросы, закрепили и начали тянуть – ничего. Высокое начальство, недовольно пожевав губами, уселось в машины и уехало в Медвежку. Наше начальство почувствовало себя вольготней и, яростно оскорбляя наших родительниц, понукало нас к действию.
Тросы перекинули на островок (лихтер спускали в протоку между ним и берегом), завели за сосну и стали тянуть. Сосна жалобно крякнула и нехотя стала выворачиваться из земли. Солнце зашло, и яркая северная заря окрасила залив и лихтер в розовые тона. Даже без понуканий и окриков начальства никто не думал расходиться. Каждый что-то советовал, ждал, тащил тросы.
Наконец на островке соорудили первобытный ворот, и на его рогатки налегло сразу человек по пять. Ворот заскрипел, трос натянулся. Казалось, вот-вот дрогнет и тронется судно.
– Еще-о-о-о!.. Взяли!.. Вместе!..
Люди грудью навалились на рогатки:
– Еще-о-о-о!.. Взяли!..
З-з-з-з-з-ыг! – свистнуло в воздухе, и лопнувший трос серебряной змеей прыгнул в небо, а затем захлестнул вокруг ворота. Двоих убило на месте. Нескольким поломало ноги и руки. Пострадавших увезли в лазарет. Работы по спуску лихтера продолжались. Завели новые тросы, поставили других людей. В конце концов лихтер стащили. Погибших «сактировали», и скоро о происшествии перестали даже вспоминать. Такие случаи в лагерях случались нередко, и это никого особенно не волновало.
Когда были готовы наши гидрографические суда – их было четыре, совершенно одинаковых, – к нам прибыл «сдаточный» капитан. Он ходил в белоснежном кителе и с белоснежным чехлом на морской фуражке. У него было длинное аристократическое лицо, а пальцы рук – тонкие и холеные. Ботинки всегда блестели, как зеркало.
– Вольнонаемный? Заключенный? – всполошились наши девушки.
Капитан оказался заключенным и поселился в ИТРовском бараке. Ему предстояло испытывать на ходу и сдавать гидрографические суда. Это был бывший капитан первого ранга военно-морского флота, внук контр-адмирала из потомственной морской семьи.
– Мы, гардемарины, – говорил он, слегка грассируя, но в меру, чуть заметно, – обожали государыню-императрицу. Это было традицией на флоте…
Вскоре Евгений Андреевич – так звали капитана – начал искать встреч со мной. И когда мы вечерами бродили по берегу Онежского озера, он много и интересно рассказывал о жизни военного флота – царского и советского.
– Я никогда не занимался политикой, дорогая моя, – говорил капитан, – но ведь мы присягали государю-императору… А присяга обязывает!
Советских морских специалистов еще почти не было; а Евгений Андреевич, будучи командиром высокого класса, любил матросов, был всегда справедлив к ним, и матросы его тоже любили. Вот почему он удержался и остался капитаном и при советской власти.
Море Евгений Андреевич любил до страсти.
– Эту любовь, – говорил он, – я впитал вместе с молоком матери.
Капитан не понимал, за что его «взяли» и что он «им» сделал.
– Политика – это не моя сфера, дорогая!
В лагере до сих пор Евгений Андреевич жил неплохо. Из дома получал великолепные посылки, на общих работах никогда не был. Дома у него остались старики-родители и жена, перед которой он преклонялся и называл ее «моя маленькая маркиза». Курил капитан какие-то особые, длинные и тонкие душистые сигареты, тоже из посылок, конечно, изящно доставая их кончиками пальцев с отполированными ногтями из золотого портсигара, на котором были выгравированы все ноты октавы, кроме «ми». Это, как говорил Евгений Андреевич, был «шикарный морской ребус, соленый, как само море»… Но далее не объяснял.
После всего, что со мной случилось, после того невероятного разъединения с человеком, который был мне дорог и близок, после странных маминых слов там, в Бутырках, с еще неясными страхами и смутными, гонимыми из души подозрениями, мне казалось, что сердце мое – как сплошная кровавая рана, до которой как ни дотронься – больно. И я старалась не дотрагиваться. Захлопнула дверь в эту странную, смутную, зыбкую неясность. Не думала и не вспоминала…
И вдруг я заметила, что Евгений Андреевич мне нравится… Что я жду этих тихих вечеров с полуночными зорями… Что сердце бьется быстрее, когда он входит в столовую – элегантный, сверкающий – и издали поднимает руку в знак приветствия.
– Сегодня я ухожу в залив, дорогая… Слушайте мой прощальный привет – три длинных и один короткий. Специально для вас.
И когда из-за острова, из лона голубого марева доносились низкие басовитые гудки – три длинных и один короткий, – они невольно ласкали мой слух и заставляли вздрагивать сердце… Оказывается, оно не было такой уж сплошной кровавой раной, мое сердце… А когда капитан возвращался, гудки звучали особенно громко и радостно – они приветствовали меня… Но все же, когда в уединенном уголке острова он взял меня за руки и, глядя затуманенным взглядом, чуть притянул к себе и едва слышно произнес: «Ну же, не терзай меня до бесконечности, дорогая… Ты же видишь, что со мной делаешь…», я оттолкнула его в ужасе:
– Как, здесь? В лагере? Вот так, прямо в кустах? Боже мой, что вы выдумываете…