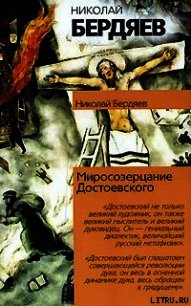Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло (онлайн книга без TXT, FB2) 📗
Таким образом, язык «Записок из подполья» – это язык маленького человека, язык отчаяния и лишений, язык самодовольной пошлости; все это и есть подполье, и голос человека из подполья не может быть милым и приятным – он может быть только таким – «страшным и удивительным».
Но вернемся к моей речи, произнесенной в Урбино:
«Я нашел итальянский перевод „Записок из подполья“, изданных в серии BUR classics. Начинается он так: „Sono un malato… Sono un malvagio. Sono un uomo odioso. Credo d’aver male al fegato“. („Я больной… Я злой. Я отвратительный человек. Я думаю, у меня больная печень“). Тут уже нет той звуковой оболочки, того звукового волчка, который мы наблюдали у Достоевского».
Казалось бы, все правильно, хороший, точный перевод, но ощущение, что речь идет о ком-то другом, как будто Ландольфи (перевод выполнил Томмазо Ландольфи) ввел успокоительное человеку из подполья, дал ему транквилизатор, сделал анестезию, и в результате получилось нечто хорошо написанное, правильное, но какое-то пресное на вкус.
Через несколько лет, в 2010 году, меня попросили перевести «Записки из подполья» (я назвал их «Memorie del sottosuolo»), и начинался мой перевод так: «Io sono un uomo malato… Un uomo cattivo, sono. Un brutto uomo, sono io. Credo di essere malato di fegato» («Я человек больной… Злой человек. Скверный я человек. Думаю, у меня болит печень».
Это улучшенный итальянский вариант, в котором я пытался передать и смысл, и структуру монолога человека из подполья. Ведь в русской версии, наблюдая за его речью, мы можем представить и его позу, и все его неестественные ужимки, выработанные за долгие годы; и гримасы злобы, отчаяния, самодовольной пошлости и досады, сменяющиеся на его лице, когда он рассказывает нам свою правду, порой такую парадоксальную (среди прочего он говорит, например, что два плюс два не всегда должно быть равно четырем, иногда нужно, чтобы оно было равно пяти); но это его правда, этого маленького человека, которого невозможно забыть.
В 1859 году, за пять лет до появления «Записок из подполья», в России был опубликован роман Ивана Гончарова «Обломов», который Владимир Набоков позже сравнит с циклом Пруста «В поисках утраченного времени».
Если главный герой «Поисков» на протяжении нескольких десятков страниц пытается заснуть (с этого начинается роман «По направлению к Свану»), то главный герой «Обломова», Илья Ильич Обломов, первые полторы сотни страниц, то есть всю первую часть романа, проводит лежа на диване, с которого так и не встает.
Да и в остальных трех частях он не отходит далеко от дивана.
В апреле 2020 года, когда за окнами, фигурально выражаясь, бушевала пандемия, отвечая на вопрос одного телеканала, что бы я порекомендовал сейчас почитать, я решил предложить «Обломова», роман о человеке, который добровольно делал то, что мы в Италии делали вынужденно, – проводил целые дни лежа на диване в полной уверенности, что лучшего занятия и быть не может.
Сразу после публикации романа, в том же 1859 году, вышла статья прогрессивного критика Николая Добролюбова, озаглавленная «Что такое обломовщина?». Статья сыграла важную роль в истории русской литературы: центральной фигурой в ней впервые становится «лишний человек» (это понятие вошло в литературный обиход после публикации повести [59] Ивана Тургенева, изданной за девять лет до появления статьи).
Добролюбов перечисляет целый ряд знаковых героев русской литературы: Онегин у Пушкина, Печорин у Лермонтова, Тентетников у Гоголя, Чулкатурин и Рудин у Тургенева – и отмечает, что все эти «герои замечательнейших русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым».
В подтверждение своей точки зрения Добролюбов цитирует эпизод из романа Тургенева «Рудин», в котором Рудин говорит: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать!»
«Больше от них вы ничего не дождетесь, – подытоживает критик, – потому что на всех них лежит печать обломовщины».
Однако Добролюбов, отметим, не считает, что «лишний человек» – это совокупность определенных черт характера; перечисленные им герои мало похожи друг на друга. То, что образованные русские в девятнадцатом веке становились «лишними», обуславливалось социальными условиями, в которых им приходилось жить.
Для многих из них знакомство с Европой совпало с окончанием наполеоновской кампании, о чем пишет Валентин Гитерманн в книге «История России» (которую я читаю и перечитываю еще с восьмидесятых годов, как и «Войну и мир», «Анну Каренину», «Идиота» и «Братьев Карамазовых»). После падения Наполеона многие русские дворяне – и как офицеры в составе оккупационной армии, и как частные лица – побывали в Париже и своими глазами увидели, как завоевания Французской революции изменили повседневную жизнь Франции; той революции, которая была далеко не так опасна, как их учили в России, в чем они и сами смогли убедиться. Но тот факт, что революционные настроения обошли Россию стороной, закрыл их родине путь к свободе и прогрессу.
Эти образованные господа «были крайне недовольны тем, что герои Отечественной войны, освободившие цивилизованный мир от тирании Наполеона, могли подвергаться телесным наказаниям, как простые крепостные, и терпеть унижения в суде. Их многое возмущало в России: злоупотребления судей, притеснения со стороны полиции и давление цензуры, засилье мракобесия в гимназиях, абсолютизм и привилегии дворянства, тяжелое бремя которых тормозило всякое развитие и ставило крест на росте национального благосостояния».
В общем, это поколение образованных людей первой половины девятнадцатого столетия было, по-видимому, первым поколением в России, наладившим широкие связи с Западом; они победили Наполеона и дошли до Парижа, они читали просветителей, слушали лекции немецких философов и, прикоснувшись к свободе, равенству и братству, проникшись идеализмом, почувствовав, что есть «звездное небо над головой и нравственный закон внутри», возвращались на родину, в Россию, где им приходилось иметь дело с крепостным правом, отсталой государственной машиной, пронизанной коррупцией, и понимали, что ничего не могут сделать.
Весь их опыт, образование и эрудиция были бессильны против пирамиды государственного аппарата во главе с царем, обладавшим неограниченной властью, так что им оставалось только идти к нему на службу, то есть ставить себя в подчиненное положение, а те, кто не хотел служить, могли удалиться в деревню и жить там тихо и спокойно. Прошу прощения, что повторяю общие места, но, думаю, фактически так все и было.
Некоторые дворяне вроде Обломова предпочитали деревне диван, но разница непринципиальная.
По непонятным мне самому причинам мне выпала честь перевести несколько лучших русских романов девятнадцатого века, в том числе и «Обломова».
Работая над переводом этого романа, я написал и предисловие к нему, в котором, упомянув статью Добролюбова и условия появления лишнего человека, задался вопросом: а как обстоит дело у нас, здесь и сейчас?
И вот как я на него ответил:
«Может быть, я неправ, но давайте попробуем представить парня, нашего современника, допустим из Карпи, которого зовут Клаудио. Представим, что он увлекается философией и пишет диссертацию о „Городе Солнца“ Кампанеллы или лучше о Спинозе, о его „Этике, доказанной в геометрическом порядке“, изучает латынь и голландский язык. Представим, что после двух лет работы он защищает диссертацию с отличием. Прекрасно, но что дальше?
Давайте спросим себя, какими интересами живет общество, которое окружает нашего Клаудио в Карпи или где-нибудь в Мирандоле [60] – неважно; чем интересуется общество, которое встретит Клаудио наутро после защиты диссертации, когда он переступит порог своей квартиры и выйдет на улицу? Интересуют ли это общество „Город Солнца“ Кампанеллы, или „Этика, доказанная в геометрическом порядке“ Спинозы, или, скажем, „Беседы“ Эпиктета? Какая польза этому обществу от Клаудио из Мирандолы, какую работу он сможет выполнять? Вариантов у него два: либо он поступит на службу, либо забьется куда-нибудь в угол и не будет больше занозой в заднице. Прошу прощения за резкость, но времена, сами понимаете, несколько изменились».