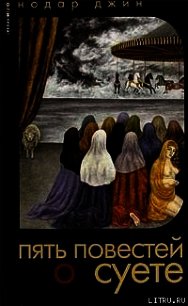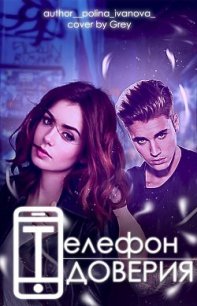Степень доверия (Повесть о Вере Фигнер) - Войнович Владимир Николаевич (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
Семен, крепкий еще семидесятилетний старик, жил в угловой комнатенке.
Я застал его стоящим на коленях под иконой, освещенной тусклой лампадкой.
Научась самостоятельно грамоте, он употреблял ее на то, что составлял ежедневно длинный перечень просьб, с которыми, поминутно заглядывая в сей документ, обращался вечерами к всевышнему. Списки эти он хранил у себя в деревянной простой шкатулке, перечитывал их на досуге и против сбывшихся пожеланий ставил крест и писал в скобках: «вполне но».
— Осподи, вразуми раба своего Федора Рябого, чтобы отдал целковый, даденный мной на масленую, — бормотал он, — подскажи барину, чтобы раздетый на улицу не выбегал, неровен час застудится. Племянница моя Дунька, которая в деревне живет, понесла от Гришки Кленова, скажи ему, чтоб женился, а коли не женится, сделай ему какую ни то неприятность либо болесть, дабы впредь неповадно было девок портить, а Дуньку тоже накажи как хошь, только поимей в виду, что она ишо молодая и глупая, опосля и сама опомнится, да будет поздно, а ишо поясница у меня болит со вчерашнего, так сделай милость, пущай пройдет, хворать-то некогда, делов много. А купец Балясинов собаку держит непривязанную, Лешку, мальчонку нашего, она уже покусала, глядишь, еще кого ухватит.
Увидев меня, старик смутился и скомкал бумажку.
— Семен, — сказал я ему улыбаясь, — что ж ты у господа ерунду всякую просишь? Попросил бы сразу чего-нибудь побольше.
— Да ведь, барин, на большее он, пожалуй, осердится, — сказал Семен, не подымаясь с колен, — а из ерунды, может, чего и подаст.
— Ерунды-то уж слишком много просишь.
— Я все прошу, а ежели он хоть что-нибудь даст, и за то спасибо.
— Ну ладно, — сказал я. — Если еще недолго будешь молиться — молись, а если долго, то сейчас сходи сам или пошли кого-нибудь, пусть принесут гостям теплые одеяла, а то ведь окна заклеены плохо, дует, еще застудим с тобой гостей.
Глава третья
Перелистывая в который раз дело Анощенко, я случайно обратил внимание на упоминание о каком-то перстне, найденном на месте происшествия. Это упоминание содержалось в протоколе, составленном участковым приставом, еще когда был жив Правоторов. Записано в виде вопроса и ответа.
«Вопрос: На месте происшествия найден вот этот перстень. Он принадлежит вам?
Ответ: Нет, этот перстень я первый раз вижу». И все. Но почему-то меня вдруг заинтересовало: что за перстень? Почему был задан такой вопрос? Я всегда помнил, что в нашем деле нельзя пренебрегать мелочами. Мелочи иногда говорят больше, чем от них ожидаешь. Я заглянул в последний лист дела, где обычно содержится опись вещественных доказательств, но никакой описи не обнаружил. Это было естественно. Какие могут быть вещественные доказательства, если произошла обыкновенная кулачная потасовка, правда, приведшая к необычным последствиям. Не могу сказать, чтобы я сразу придал большое значение своему открытию, но на всякий случай я отыскал пристава, составлявшего протокол. Я говорю «отыскал», потому что пристав этот, изгнанный из полиции за пьянство, теперь служил надзирателем в тюремном замке. Бывший пристав не сразу вспомнил, что действительно в его протоколе упоминался перстень, но упоминался только потому, что его нашли на месте драки и не знали, кому отдать.
— Перстенек-то был дурной, черный, потому-то его и не уперли, — говорил пристав, глядя на меня преданными полицейскими глазами. — Вот я и спросил господина Анощенко, не его ли. А то ведь как что, так сразу говорят, что в полиции, дескать, самые воры и сидят. Ну, а раз господин Анощенко перстенек не признал, то мне и спрашивать больше нечего.
— И куда вы его дели? — спросил я.
— Сейчас и не упомню, — смутился пристав. — Да вы не сомневайтесь, себе я его не взял. Кабы он золотой был или хотя б серебряный, а то ведь перстенишко так себе — одна дрянь.
— Все же мне бы хотелось, чтоб вы припомнили, — настаивал я.
Чем труднее казалось добыть этот перстень, тем почему-то важнее мне мнилась тайна, скрытая за ним, и тем большее упорство проявлял я в отыскании этой безделицы.
В конце концов пристав припомнил, что, кажется, в левом ящике его бывшего стола лежал этот перстень. Поехал я опять на бывший участок этого бывшего пристава, попросил нового пристава открыть стол, но искомого опять-таки не нашел ни в левом ящике, ни в правом. Но тут появилась еще одна ниточка: новый пристав сказал, что стол недавно ремонтировали и уж не столяр ли украл. Он обещал мне вызвать этого столяра и узнать.
Розыски перстенька на первый взгляд, может, и были совершеннейшей ерундой, но на эту ерунду я потратил тогда дня три или четыре. Занятый этими поисками, я иногда вовсе забывал про своих гостей, с которыми у меня, впрочем, сложились вполне дружеские отношения. Правда, старика Фигнера мне приходилось видеть довольно редко. Целый день он пропадал по своим делам, то закупая какие-то жернова, то навещая детей (как-никак две дочери учились в институте, а два сына в гимназии), то наносил визиты друзьям и знакомым. Вера часто оставалась дома, и мне случалось говорить с ней о том, о сем. Сперва разговоры наши проходили в несколько натянутой атмосфере, какая возникает между не очень знакомыми мужчиной и молодой девушкой, однако ж мы вскоре сблизились, и отношения наши стали вполне свободными и дружескими, с тем, правда, оттенком шутливой снисходительности с моей стороны, который был следствием разницы в возрасте.
Вот я сижу в своем кабинете, в который раз перечитывая дело Анощенко. Входит Вера.
— Алексей Викторович, я вам не помешаю?
— Помешаете, — говорю я грубо, но шутливо, в том именно тоне, который между нами установился в последнее время.
— А что делать, если мне скучно?
— Займитесь чем-нибудь.
— Мне надоело заниматься.
— А что делает ваш батюшка?
— Сказал, что поехал куда-то с деловым визитом, но я думаю, что на самом деле он играет где-то в картишки. Он большой любитель этого дела.
— Уж лучше играть в карты, — говорю я, — чем слоняться по дому без дела или вертеться перед зеркалом.
— Не думаю. Вы знаете, я всю жизнь чем-нибудь занималась. То меня учили французскому языку, то танцам, то музыке. Потом шесть лет в институте, в четырех стенах. С ума сойти! Столько времени потрачено зря!
Я молчу, читаю. Все-таки хотелось бы понять, что за перстень был обнаружен на месте избиения, кому он принадлежал и какое он имеет ко всему этому отношение.
— Алексей Викторович, как вы думаете, я могу кому-нибудь понравиться?
— Сомневаюсь.
— А почему? Разве я некрасивая?
— А вы сами как думаете?
Она смотрит в зеркало.
— Мне кажется, что я миловидная.
— Не знаю, с чего вы это взяли.
— А что? У меня правильные черты лица, большие глаза, темные волосы, благодаря которым домашние зовут меня Джек-Блек. Пожалуй, мне кто- нибудь может даже предложение сделать.
— Не думаю. Разве что по расчету.
— По расчету я не хочу. Я скажу папе, чтобы он мне не давал никакого приданого, тогда если кто-нибудь, пускай самый некрасивый и жалкий человек, сделает мне предложение, я буду знать, что он меня любит.
Я продолжаю читать. Молчу, и она молчит. Смотрит в зеркало. То подойдет вплотную, то отойдет. Нахмурится, улыбнется. Я не выдерживаю:
— Вера, вы серьезный человек?
— Очень.
— Почему же вы проводите время впустую? Неужели вам нечем заняться?
— Абсолютно нечем. — Она вздыхает.
— Почитали бы книгу.
— Ах, зачем мне нужны ваши книги. Я их уже все прочла.
— Да вы читали небось все какую-нибудь ерунду, беллетристику. Да?
— Да.
— Кто ваш любимый писатель?
— Тургенев.
— «Муму»?
— Зачем же? «Первая любовь» гораздо интереснее.
— И Пушкина любите?
— Пушкина люблю. А что, нельзя?
— Нет, отчего же? Но все это литература развлекательная, она действует на чувства, но не дает достаточно пищи уму. (Признаюсь, в то время я именно так и думал.) А вам надо читать Герцена, Писарева, Чернышевского, наконец, если достанете.