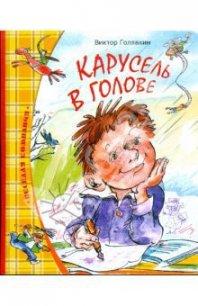Божьи люди. Мои духовные встречи - Митрополит (Федченков) Вениамин (электронная книга txt) 📗
Белом стане башен и церквей.
За ворота бурный ветер манит.
Вьюжный запевает соловей…
И кончились так:
Помню все, что недоступно этим,
В мантиях, спокойным и седым!
Так как батюшке я читала все, что пишу, то и это прочла и спросила несколько провокационно: “Благословите печатать?” — ибо без благословенья не смела не только выйти за ограду монастыря, но даже помочь материально кому–нибудь, или приютить у себя переночевать, или прочесть книгу.
Он спокойно ответил:
— Печатай! Творчество надо брать в целом. У Мильтона есть вещи страшные и, можно сказать, ужасные, а все вместе хорошо!
Он изумительно говорил об искусстве: “В мире есть светы и звуки. Художник, писатель кладет их на холст или бумагу и этим убивает. Свет превращается в цвет, звук в надписание, в буквы. Картины, книги, ноты — гробницы света и звука, гробницы смысла. Но приходит зритель, читатель — и воскрешает погребенное. Так завершается круг искусства.
Но так с малым искусством. А есть Великое, есть слово, которое живит и умерщвляет, псалмы Давида, например, но к этому искусству один путь — путь подвига”.
Батюшка любил говорить: “Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам”[151].
“Я муравей и потому вижу каждую ямку и выбоинку на земле, а братия очень высока — до облака подымаются”.
“Духовный путь — это канат, протянутый в 30 футах от земли. Пройдешь по нему — все рукоплещут, а упадешь — стыд-то какой!”
“Глаза даны человеку, чтобы он смотрел ими прямо”.
“Прежде чем писать, обмакни перо 7 раз в чернильницу”.
“Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы”.
“Ко мне однажды пришли юноши с преподавателем своим и просили сказать им что-нибудь о научности. Я им и сказал: “Юноши, надо, чтобы нравственность ваша не мешала научности, а научность — нравственности”.
“Бог не только дозволяет, но и требует от человека, чтобы тот возрастал в познании. Господь изображается иногда в окружении в знак того, что окружение Божие разрешено изучать, а иногда в треугольнике, чтобы показать, что острия треугольника поражают дерзновенного, неблагоговейно касающегося непостижимых Таин Божиих”.
“Работай! — в работе незаметно пройдут годы”.
У батюшки был кот, с которым он играл. Для кота была привязана веревочка с бумажкой. Кот его слушался, как человек. Батюшка говорил: “Старец Герасим был великий старец, у него был лев, а мы малы, у нас кот!” — и рассказывал чудную сказку о коте Ноя. Нечистый забрался в мышонка и пытался прогрызть дно ковчега, а кот поймал мышонка и съел, — за это все кошки будут в раю.
Батюшка говорил: “Самое скучное — это каяться, а надо!”
Он дивную свою прозорливость проявлял часто в шутках.
Я приехала к нему с Ниной Б.[152]. Спали мы на хозяйской половине, отделенной холодным коридором. Разговоров наших батюшка слышать не мог, а домашние все ушли по делам. Утро было прекрасное, морозное. Нина выглянула в окошко:
— Эх, прокатиться бы сейчас на саночках!
Снег так и блестел за окном.
Я опасливо заметила (памятуя прогулку в Стенино через волчий лог) :
— Смотри, не посыпать бы нам голову пеплом!
Мы обе были очень веселы и счастливы, что приехали к батюшке, и — молоды.
Перед чаем мы пошли на благословение. Батюшка ласково благословил и сказал:
— Ниночка, я понимаю, что покататься очень хорошо, но тебя каждый комиссар увидит, ты такая величественная детина.
А Нина была высокой, стройной. Мы только переглянулись. Потом батюшка мелкими шажками ушел за перегородочку, поискал что-то и вышел.
— Наденька, пойди к матушке, попроси баночку — пепла насыпать.
Он говорил о послушании:
— Самое главное приобретение для человека — послушание. Без него человек везет, везет; он как лошадь, и вдруг на него находит… такое стихийное препинание. И ко всему нужно понуждение. Если даже ты голоден и захочешь есть — кушанье само не попадет в рот, все-таки ты должен подойти к столу, взять ложку… Всегда нужно терпение и пождание.
Посылает послушницу. Та по дороге задерживается разговором. Батюшка появляется на пороге: “Две минуты прошло, а ты еще здесь”.
Еще в Оптиной: в хибарке плачет женщина. У нее умерло несколько детей. Недавно — последний. Она приехала “за утешением”. Мы ждем особого утешения ей. Выходит старец, идет по рядам. Женщина с плачем бросается ему в ноги. — Он проходит дальше с каменным лицом:
— Это наказанье за грехи!
А рядом безмерная ласка:
— Чадо мое! Овечка моя! — и широта, и чудесный человеческий юмор.
— Батюшка, ну что это вы все снимаете с меня шкурки!
— Посуди сама, прилично ли есть апельсин, не сняв шкурки.
— Я все-таки боюсь, что вы меня пошлете в монастырь.
— Что ты! Я прямо пошлю тебя в рай.
— Батюшка, если можно, расскажите, были ли у вас виденья?
— Вот этого-то я тебе и не скажу!
— Люби земные луга, но не забывай о небесных.
Чтобы показать ту духовную силу и благодать, которую имел батюшка Нектарий, и как он испытывал и вел, я рассказываю, как я попала к нему…
В 1921 году умер мой друг. Душа моя все время была на грани обоих миров. У меня хватило разумения понять опасность своего душевного состояния, и однажды я от всего сердца стала молиться о ниспослании мне учителя и руководителя. Я верила в Господа Иисуса Христа, но была далека от всякой церковности. Не успела я кончить молитвы (это было утром), как ко мне вошла знакомая (не близкая) и как будто случайно спросила меня:
— А вы знаете Леву Б.? Он ученик Оптинского старца Нектария.
Леву я знала с 15 лет, но никогда не слыхала об его связи с Оптиной. Едва проводив гостью, я бросилась к Леве:
— Вы ученик старца?
— Да.
— Можете ли вы передать ему письмо?
— Да. Я еду на днях в Оптину. Поедемте вместе.
— Нет, но письмо отвезите.
Я написала батюшке письмо — как исповедь.
В ответ я получила Троицкий листок о поминовении усопших (который, сказать правду, шокировал меня — после Штейнера[153], Сведенборга[154], Соловьева[155] и т. д., и т. д.) и словесный ответ — если ей уж так хочется, что ж, может приехать.
Мне это тоже не понравилось. Но в это же время я увидела сон — какую-то комнату без обоев, с дощатыми стенами. Там стол, накрытый к чаю, и шкаф. Перед ней крыльцо с лестницей. И я понимаю во сне, что это Оптина. Идут монахи. И наконец, батюшка Нектарий, только несколько моложе, чем он был на самом деле. Они все садятся за трапезу. А меня охватывает такое умиление и раскаяние, что я забиваюсь в угол, за шкаф, — и там плачу. Тогда батюшка встает, берет меня за руку, усаживает и поит чаем. Проснулась я с волнением и умилением, а листок и ответ (то есть все, что наяву) — не нравятся. Я не поехала. На Рождество Л. опять поехал к батюшке. Тот долго рылся при нем в письмах, а потом велел сказать мне, что он теперь и ответил бы мне еще, но письмо мое затерял секретарь. Я рассердилась: во-первых, какие могут быть у старцев секретари (к тому времени я удосужилась прочесть Серафимо-Дивеевскую летопись[156], у старца Серафима секретаря не было!); во–вторых, я пишу как исповедь, а он отдает всяким секретарям, а те так небрежны, что теряют такие письма.
Я не только не поехала, но махнула на Оптину рукой. А так как я тосковала и мне было трудно и страшно, то я старалась заглушить все и распутством, и надрывами всякими.
В июне приходит ко мне один издатель и предлагает участвовать в серии книг “Религия и революция” — написать об Оптиной сейчас.
— Я там не была и ничего не знаю.
— А вы поезжайте и посмотрите на месте.
— У меня денег нет.