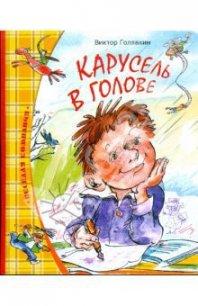Божьи люди. Мои духовные встречи - Митрополит (Федченков) Вениамин (электронная книга txt) 📗
— Нет еще.
— Ты должен постричься в мантию.
— Как же я при такой борьбе приму мантию?
— Для тебя полезно: мантия тебе поможет все это перебороть. И не смей ко мне приходить без мантии.
В другой раз, раньше:
— Молись и попроси всех отцов и братий молиться за меня, чтобы я прожил еще год.
И я пришел к нему на похороны. И пригодился батюшке при смертном его облачении.
Все эти записки переписал я в 1948 году 27 ноября нового стиля, в г. Риге, где я был тогда архиереем. — М. В.
Заметки о последних годах жизни старца иеромонаха Нектария[149]
Весной 1923 года были закрыты храмы Оптиной пустыни и монахи удалены из нее. К этому времени в Оптиной оставалось 250 человек братии; многие из них жили здесь по 20–40 лет. Тому, кто отрекся бы от монашества, предлагалось остаться здесь жить. Изгоняемым выдавалось из имущества 2 смены одежды и белья, кое-что из посуды — и все. Ни один из оптинских монахов от монашества не отрекся, 60 человек было оставлено временно для обслуживания музея и ликвидации хозяйства.
Старцу Нектарию было предложено выехать за пределы Калужской области. В 2–х верстах от границы ее с Брянской областью есть с. Плохино. В версте от него был хутор покойного Василия Петровича Осина — близкого духовного сына батюшки. Туда и выехал сначала батюшка, освобожденный из Козельской тюрьмы. Взял он с собой младшего келейника о. Петра. Осины предоставили батюшке отдельный домик. Скоро туда приехали еще две духовные дочери старца. Батюшка был глубоко потрясен и печален, плакал он иногда целыми днями и просил сейчас не обращаться к нему ни за какими советами. Все утешение его было в молитве. Однажды уходящий от него обернулся и увидел, как батюшка с руками, простертыми, как у ребенка, зовущего мать, — весь обратился к иконам. Он пребывал в великой борьбе душевной. Он рассказал одним своим духовным детям, что к нему явились все Оптинские почившие старцы и сказали ему: “Если хочешь быть с нами, не оставляй своих духовных чад”. И он тогда вернулся к старчеству. Жившие с ним уверяют, что духовный перелом был явен. Утром однажды вышел к ним прежний старец во всей силе духа.
Надо было уезжать с хутора за пределы области. В 14 верстах оттуда, уже в Брянской области, находится с. Холмищи, где жил шурин Осина — вдовец, имевший хороший дом, Андрей Ефимович Денежкин, который звал батюшку к себе на жительство, предлагая отдельную половину дома.
Батюшка послал одну из духовных дочерей осмотреть дом. Внешне все казалось подходящим, хозяин приветливым. Батюшка переехал, но уже через месяц выяснилось, что жизнь здесь будет тяжела. Хозяин был и груб, и жаден, и боязлив. Он и смущался перед старцем, и боялся за себя, как за хозяина дома, и хотел наживаться с возможных посетителей, а старец смирялся перед ним в житейском, без разрешения форточки не открывал, а, выполняя дело свое, не считался с ним. На предложение же друзей устроить его в другом месте отвечал: “Нет, сюда меня привел Господь”.
При всех скорбях был ровен и благодушен. Сначала жил при нем о. Петр, затем молодая монахиня Мария, постриженная здесь же по благословению батюшки приезжим архиереем, девушка очень трудного истерического характера, на которой хозяин мечтал жениться.
Я говорю об этом, чтобы была понятна тяжесть и напряженность чисто житейских условий. Надо прибавить сюда и некоторое юродство батюшки. Так, ему запрещено было принимать посетителей. К нему приезжали тайно. Приезжает вышеупомянутый епископ. Батюшка спрашивает:
— Где сейчас владыка?
Ему отвечают:
— Во ржи.
— Ну, хорошо, пусть там посидит до вечера.
Вечером старец посылает за ним, и, когда тот подымается украдкой на крыльцо, его встречает громогласный хор ранее приехавших посетителей: “Ис полла эти, дэспота” — и улыбающийся батюшка. Окна открыты, ранний вечер. Все деревенские дома. Хозяин в ужасе, в ярости — и в то же время польщен, что принимает архиерея.
Почти всех приходящих к нему батюшка так или иначе испытывал, всякого по его мере, и чем труднее был человек, тем терпеливее был батюшка. Ближайшие к нему житейски — обычно были удаленнейшими духовно, или требовавшими максимальных забот, духовными младенцами, или “бунтовщиками” против старчества.
Мне приходится несколько сказать о себе, чтобы показать батюшку. Я была ужасна… Я, как норовистая лошадь, рвала все постромки и отказывалась от послушания. Но перед Богом и памятью батюшки я могу сказать, что, сколько у меня хватало сил душевных, я любила своего отца и старца, и он это знал. Он делал со мною так: мягкостью и любовью из меня всегда можно было веревки вить. Когда я была в умилении, он взял с меня слово, что, когда бы он меня ни позвал, я к нему приду или приеду, где бы я ни была. Потом начинались всевозможные “экзамены и маневры”, как он это называл, на которых я вечно проваливалась. Однажды я ушла от него почти на 2 года, тосковала ужасно, грешила с вызовом, и писала ему об этом — вот, вот, вот! — он молчал. Потом (по его молитвам!) я стала образумливаться, но думала, что все кончено, и мне к нему возврата нет. Вдруг он позвал меня, напоминая мое слово. Я поехала. Он встретил меня, как отец, не как старец:
— Побудь, поживи у меня! Ты нужна мне!
Я ответила:
— Хорошо, но без послушания.
— Хорошо! Только останься погостить.
Ласков он был необыкновенно, прост, сердечен, целые вечера говорил со мной, рассказывал о себе… А на послушание опять не хочу идти, боюсь, замучилась. Я вечно боялась страдания и очень своевольна была. И чтобы он, именно он, меня на страдания посылал — не могла перенести: я не смогла перенести (я пишу, чтобы было понятно) того, что он меня отослал в мир и там, видимо, оставил без помощи. Связи свои, спасая его же, я разбила. Заработок нищенский, никому дела до меня нет: я как потерянная после 2 лет жизни около старца. Когда я увидела, в каком я оказалась положении, и написала ему попросту, как могла бы написать родному отцу, чтобы он или позволил мне вернуться к нему, или помог мне материально на первое время, пока я найду работу, а он мне ответил равнодушным письмом, что он живет неплохо (моему “деду” я смогла получить все из хибарки и обеспечила его[150]) и мне того же желает. И — все. С моей тогдашней точки зрения получилось, что этот мой “святой” старец поступил со мной так, как я бы не поступила с товарищем. И вынести этого я не смогла. Другому бы простила, а ему не прощала, и у меня все полетело. Остановила, задержала мое стремительное падение одна необыкновенная милость Божия, услышанный мной Голос. Но все-таки я не понимала и от старца ушла. И вот почти через 2 года он меня вызвал в Холмищи. Приехала я из чувства чести, ибо он воззвал к моему честному слову и ссылался на то, что я нужна, и потому, что со всей горечью я любила его и жалела. Но на послушание опять — никогда!
Живу неделю. Никаких намеков на дисциплину и прочее.
— Наденька, надо мне сахару наколоть, а у меня руки болят.
— Пожалуйста, батюшка!
У него была машинка для колки. Колю. Он ходит по комнате, пройдет мимо и погладит меня по голове. Входит временно гостившая там очень милая матушка.
— Матушка, что делает Н. А.?
Матушка с улыбкой:
— Исполняет послушание.
— Наденька, матушке даже издали видно, что ты исполняешь послушание.
Я вскакиваю.
— Если так, не буду колоть!
Он молча берет сахар и начинает колоть сам. Руки распухшие, он морщится. И я взяла от него и стала колоть. А потом простил меня мой старец.
Бывал нежен, как с малым ребенком, но за то, что в день исповеди до повечерия я проболтала с подругами (о чем ни я, ни они ему не докладывали), послал меня в 9 ч. вечера дойти 2 версты от Оптиной до дер. Стенино и обратно по мелколесью, где волки бродили стаями, а был голодный год.
Взбунтовавшись (уж не помню почему), я писала стихи, которые начинались так:
Я чужая в этом белом стане,