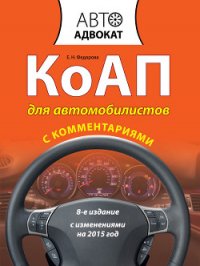На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
К сожалению, попасть на работу было очень трудно – всегда находились более настырные и бойкие, настоящие трудовые женщины, которые оттирали нас – «интеллигенцию», награждая образными и красочными эпитетами, и пролезали без всякой очереди. Надо отдать справедливость – и с работой они, конечно, управлялись гораздо лучше нас. Но раза два-три и мне все же удалось помыть полы в Бутырской тюрьме.
Несмотря на то что в камере постоянно устраивали обыски – «шмоны», как их называли на жаргоне, просочившемся в тюремный быт из лагерей, все равно каким-то чудом появлялись у нас в камере занесенные кем-нибудь в подкладках пальто, или в волосах, или еще где нибудь огрызки карандашей, иголки и даже осколочки зеркала. При очередном «шмоне» их отбирали, но потом они заводились снова. То же самое было и у мужчин.
Уборная была почтовым отделением. Ежедневно все ее стены покрывались надписями – карандашными или нацарапанными на штукатурке: здесь ли тот-то и тот-то? Передайте тому-то, что такой-то здесь… Приветы, прощания – даже стихи! – все принимали каменные сии скрижали. Время от времени тюремная обслуга их отскабливала и замазывала, но надписи появлялись снова. За трубу, под унитаз засовывались крохотные записочки (бумага ведь тоже была в дефиците), и они всегда находили своих адресатов.
Впрочем, письмо можно было еще получить во время обеда – в каше, ведь мужчин заставляли разносить пищу, и они вносили в камеру огромные баки с супом и кашей. Дежурные раскладывали еду по мискам, и частенько вместе с кашей в них попадали аккуратно свернутые записочки.
– Сидорова, Верка! Опять тебе «твой» пишет! Держи!
Хотя и отправители, и адресаты были «политическими», все эти записочки и сношения были настолько далеки от какой бы то ни было политики, что охранники смотрели на них сквозь пальцы, ничуть не беспокоясь. И во всех пересылках, где бы ни довелось мне побывать потом, а в скольких – и не перечесть, везде на стенах в камерах и главным образом в уборных красовались надписи, которые не успевала соскабливать тюремная обслуга.
…Я страшно устала от вечного шума, духоты и безделья, а кассация все не приходила. Я, как и другие, писала заявления, просила отправить меня в лагерь, на какую угодно работу – ведь «кассацию» могут прислать и туда! Но до получения ответа на кассацию никого на этап не брали.
В один прекрасный день дверь камеры отворилась, и на пороге нашей пересылки появилась… Раиса Осиповна!
– Раиса Осиповна! Дорогая! Родная моя! – Я чуть не задушила ее в объятиях.
Она стала как будто еще меньше ростом, еще больше похудела, побледнела – совсем крошечная белая старушечка. Держалась за сердце и жаловалась, что все время задыхается. Мне удалось устроить ее на столе, недалеко от фрамуги. И все же в первый же вечер с ней случился глубокий обморок. Вызвали медсестру. Она сделала укол камфары, дала Раисе Осиповне валериановых капель, когда та пришла в себя.
– Надо же женщину в лазарет взять, она совсем слабая, – говорили я и еще несколько человек.
Сестра молча посмотрела на нас и вышла. На другой день Раису Осиповну водили к врачу, но в лазарет так и не положили. Несколько раз, пока она сидела с нами в пересылке, с ней случались обмороки, но в остальное время наша старушечка была по-прежнему бодра и жизнерадостна. Когда Раиса Осиповна чувствовала себя лучше, то по-прежнему много и интересно рассказывала о своей юности, об эмиграции, о Швейцарии и Франции, о жизни в Париже. У нас от ее рассказов кружилась голова. Хотелось улететь, увидеть весь этот сказочный мир…
Вокруг нее образовался кружок, и мы заботились о ней, как могли. Ночью, когда все засыпали, я потихоньку залезала по решеткам окна и открывала фрамугу, чтобы дать ей хоть немного свежего воздуха. На этот раз ее приговорили к трем годам ссылки – «очередной», как она грустно шутила. Но, к сожалению, это была ссылка в Енисейск, и Раиса Осиповна боялась этапа – такой путь, столько пересыльных тюрем, а сил так мало. Ей разрешили написать сыну, чтобы он похлопотал о «спецконвое» и перевозке за собственный счет.
И вот однажды Раису Осиповну вызвали на свидание. Она вернулась в камеру вся посветлевшая, разрумянившаяся, словно помолодевшая на десять лет.
– Дэ-дэ! Мой маленький Дэ-дэ! Он все сделал!
Андрей (Дэ-дэ) был у Пешковой сам, лично.
– Успокойте свою мать, – сказала она ему, – она поедет со спецконвоем за счет Красного Креста.
Андрей только что передал это Раисе Осиповне.
– Ах, если бы вы только могли его видеть! Какой мальчик! Какой мальчик!
В эту же ночь Раису Осиповну взяли на этап вместе с другими. Решили, должно быть, что «спецконвой» – слишком большая роскошь для старой революционерки и неуместный либерализм. Когда я спустя 15 лет попала в Енисейск, то, как ни искала, никаких следов ссыльной Губергриц там не нашла…
…Два раза за время сидения в Бутырках у меня тоже были свидания, правда очень странные. Почему-то их делали «массовыми» – для удобства конвоиров, что ли? Чтобы скорее отделаться от толпы людей, с нетерпением ожидающих этого, может быть, последнего в их жизни свидания? Или просто для того, чтобы мы ничего не смогли сказать родным?
Огромная зала была разделена не решеткой даже, а скорее сеткой, такой, как на вольерах в зоопарках. Она была протянута вдоль всей залы в два ряда, расстояние между которыми составляло метра в два – два с половиной. За сетками стояли люди. С одной стороны – заключенные, с другой – родственники. Между рядами по «свободной зоне» прогуливались охранники.
Зала была очень большая, но и людей накопилась масса. Все равно все не помещались у сеток, и первое, что оглушало, – брань. Каждый старался оттолкнуть другого, пробраться к самой сетке, каждый искал своих родных и перебегал с места на место. Все спешили – ведь на свидание отпускалось всего лишь несколько минут. Шум, гвалт, вопли стояли невообразимые.
Наконец я вижу ее, вижу эту маленькую сгорбленную фигурку в темном пальто и черной шапочке, натянутой до самых бровей. Испуганное, растерянное лицо.
– Мама, мама, – кричу я изо всех сил, стараясь перекричать моих соседей справа и слева. – Да мама же!.. Я здесь! Мама!
Наконец она меня тоже замечает. Протискивается к сетке и… начинает плакать. Что-то говорит, но я ее не слышу, ни одного слова.
– Мамочка, не плачь, – кричу я. – Еще во всем разберутся, все будет хорошо!.. Как ребята?
Опять мама что-то говорит, и опять я не слышу ни одного слова. И тут раздаются свистки: свидание окончено.
– Камера семьдесят восьмая, – кричит конвоир, – по четыре разберись!
И тогда, в каком-то секундном затишье, до меня доносится отчаянный голос мамы:
– Ведь это же все Юра! Ефимов Юра! Это он!
Господи! Мама сошла с ума! Только этого еще недоставало! Я хочу броситься к решетке, крикнуть ей, что это не так, что она ошибается, что этого не может быть, что… Но конвоир сердито кричит:
– Не задерживаться! Марш вперед! – А потом, глядя на меня в упор, добавляет: – А ну, подтянись к своей четверке!
И грозится, что в следующий раз вся наша камера останется без свиданий. Соседи меня подталкивают и тащат… Но и в «следующий раз» свидание состоялось – последнее, перед отправкой на этап, уже после получения мной долгожданного ответа, изложенного предельно коротко и ясно. В нем было сказано, что военная коллегия Верховного суда рассмотрела мою кассационную жалобу и определила, что военный трибунал Московской области принял правильное решение, что преступление мое тоже квалифицировано правильно и срок наказания установлен в соответствии с тяжестью преступления. Мое дело было закончено и пересмотру не подлежало.
На последнее свидание пришли все – мама, муж и ребята. К счастью, народу было меньше и такого адского шума не было. К счастью ли? Старший сын, шестилетний Славик, как-то жалобно улыбаясь одним уголком губ, спросил:
– Мамочка, за что они тебя взяли?
– Это недоразумение, милый мой! Я скоро вернусь. Когда ты подрастешь, я все тебе расскажу…