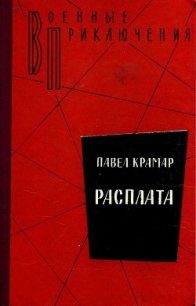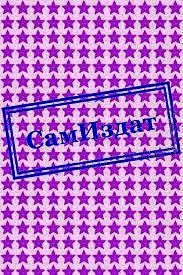Суворовец Соболев, встать в строй! - Маляренко Феликс Васильевич (мир книг TXT) 📗
— Не бойся, — из строя долетел Витькин шёпот.
Санька закрыл глаза и сжал кулаки.
«Сейчас, сейчас я перепрыгну эту кочерыжку на толстых раскоряченных ножках. Сейчас, сейчас перелечу. Пусть разобьюсь, но перескачу».
— Саша, вперёд, и не трусь, — слова преподавателя подтолкнули, и он побежал, колотя кожаными тапочками дощатый крашеный пол спортзала, видя перед собой лишь натёртую до блеска руками суворовцев коричневую спину козла. Но перед самым мостиком испугался, затормозил и, проскальзывая на гладких кожаных подошвах, отпрыгнул в сторону.
— Ш-жаба, — тут же прошипело за спиной.
— Опять ты испугался, — спокойно улыбнулся Иванов. – Жалко, что ты не прыгал в чехарду в школе. Я, пожалуй, скажу Балашову, чтобы он позанимался с тобой вечером на самоподготовке, а когда будет время, приходи в спортзал и тренируйся сам. И ещё… Знаешь, на переменах, в строю, за завтраком, за обедом думай, что козёл не страшен, что ты перепрыгнешь через него. Ночью, перед тем как заснуть, представляй, как бежишь, отталкиваешься и перелетаешь! И тут хоть не бойся.
— Здесь он не забоится, — хихикнул Рустамчик, — во сне он летает.
— Может, и летает, — вступился Витька. — Можно подумать, ты во сне никогда не летал.
— А может он не летает, а падает, — продолжал хихикать Рустамчик.
— Падал, значит, тоже летал, — улыбнулся Иванов, — я в детстве во сне часто летал. Когда летишь, говорят, растёшь. Полёт поднимает и растягивает тебя. В полёте красота. Посмотрите на птиц. Ворона сидит на дереве серая, обыкновенная, а летит, и ею можно любоваться.
— Вороной? – переспросил Серёга Яковлев. – Тогда и жабой можно.
— Можно и жабой, если присмотреться, познать. Жаба – живое и беззащитное существо.
— Беззащитное? Тоже мне беззащитное, от неё бородавки на руках. Она же вся в бородавках, — усмехнулся Серёга.
— У самого бородавки. Вечно ты ко всем лезешь. Чуть стоит кому-нибудь сделать не так, как тебе нужно, ты своё «жаба». Сам на жабу похож, — наскочил Витька. – Сидишь в укромном месте и копеечки пересчитываешь.
— Ещё неизвестно, кто на кого… Ты так на глиста.
— А, жабу, значит, принимаешь, — поймал его Витька. – Поэтому и другим цепляешь её, у самого цыпки и бородавки на руках.
— Хватит, хватит, — покачал рукой майор, — что за волнения в моём войске? Всё, переходим к перекличке. Сегодня повторяем упражнение, которое на прошлом занятии разучивали.
Санька ещё не отошёл от прыжка. Ему было не по себе. Вот ведь опять приготовился, разбежался и в самый последний момент струсил. Ведь понимал, что бояться нельзя. Только тогда перелетишь. Но что-то внутри затормозило. Что? Знать бы что, тогда можно было это «что» преодолеть. И тогда бы никогда и ничего не боялся. Но вот не перелетел, не успокоил свой страх, который лежит ниже сердца, ниже грудной клетки, в животе. Когда надо, остужает ноги и руки, делая их непослушными. Если бы людям делали такие операции, удаляли у них страх?
Вот у Витьки этого страха совсем нет. Родился без него. Ничего не боится и всегда готов прийти на помощь. Витьке бы стать врачом. Он избавил бы людей от боли и, может, нашёл бы место, где находится страх и удалил его у людей, нуждающихся в этом.
И вдруг Саньке стало не по себе:
«Я предатель, я предатель! Витька на самоподготовке старался, печатными буквами выводил письмо, доверил мне отнести, а я этого не сделал. Предал его. Разорвал письмо на мелкие кусочки и бросил в огонь, в горящую кучу мусора. Пламя подняло разорванное письмо, поглотило его, и обрывки завихрились, черня и тлея над огневым городком. Зачем я это сделал? Ведь это предательство по отношению к другу. Ведь он не хочет ничего плохого. Ведь для него главное – познакомить Лиду и Володю. А что осталось от Витькиной работы? Обугленная, рассыпавшаяся, растаявшая в пыль труха. И всё потому, что мне не понравился весенний ландышевый сад из Лидиных волос, всего-то».
Сейчас ему было стыдно, что взамен Витькиного он написал Лиде совсем другое письмо. Написал про себя, как ему бывает обидно, когда обижают несправедливо, как грустно и одиноко в день рожденья, когда лежишь в санчасти и лечишься от гриппа. Но как становиться радостно оттого, что после занятий придут друзья, поздравят и скажут, чтобы ты выздоравливал, «а то без тебя скучно». И сразу хочется преодолеть недуг.
Потом Санька писал, представляя себя Володей Зайцевым. Рассказывал, как прыгал в это воскресенье с парашютом, как боялся, как летел, как потом пел песни… Письмо подписал как Витька: суворовец «В» и, не перечитывая, отправил.
Ведь уверен был. А сейчас пришёл стыд: зачем подвёл друга, который столько раз заслонял его, оберегал, защищал… «Надо ему обо всём рассказать. – Но тут же решил. – Нет, не буду. Дело сделано. Ничем не поправишь. Письмо ушло».
Майор Иванов вызвал к перекладине Витьку, тот завис, легко с маха поднялся над перекладиной и мягко соскочил.
Санька взглянул на ребят: никто не восхитился легко выполненным упражнением. Просто все его делали, кто лучше, кто хуже. Только у Саньки да ещё, может, у Толи Декабрёва оно не получалось. Удивляет, наверно, то, что не умеешь, а что можешь ты, но не может другой, раздражает. Все казались сейчас какими-то одинаковыми. У каждого голубая майка, заправленная в синие, до колен трусы. Под чёрными кожаными тапочками с негнущимися подошвами морщинились синие хлопчатобумажные носки.
«Сейчас мне выходить из строя», — подумал Санька, осторожно подобрался, приготовился, но преподаватель посмотрел на часы:
— Всё, вам пора. Так, Соболев, не забудь, о чём я сказал. Мысленно тренируйся и верь, всё получится.
За спиной опять потянулся липкий, противный шепоток:
— Вот жаба! Вечно ему поблажки. На перекладину не лез, через козлика — мысленно тренируйся.
— А тебе-то что? – отвечал ему резкий Витькин голос.
Шёпот огрызался, извивался, но смысл его слов разобрать было нельзя, потому что он потонул в общем говоре суворовцев, торопившихся в раздевалку.
Саньке казалось, что идущие за спиной шепчутся, осуждают, язвят, и он заставил себя оглянуться: никто даже не смотрел в его сторону.
Только что он представлял, что все взгляды обращены к нему, что его осуждают, готовят недоброе, но стоило оглянуться, и всё исчезло, рассеялось… Все торопились в раздевалку скорее натянуть на себя толстое тёплое ненавистное бельё, гимнастёрку, брюки, сапоги. И он тоже заспешил.
«Скорее одеться, чтобы не опоздать в строй и снова не услышать обидных окриков».
Суетливо натягивая на себя одежду, он путался, злился, пока не застегнул ремень и не принялся разглаживать складки растолстевшей за счёт зимнего белья формы.
К зимнему нижнему белью питали вражду все суворовцы. Форма от него становилась мешковатой, а её голубой пух намертво цеплялся к чёрному сукну и не вычищался жёсткой щёткой, не отглаживался тяжёлым утюгом через намыленную тряпку. Ненавистное бельё старались не надевать. Прятали под матрасами и в тумбочках.
В строй Санька не опоздал и даже успел отдышаться, осмотреться и ещё раз заправиться. На этот раз последним, не торопясь, шёл самый сильный во взводе Лёшка Дмитриев. Суворовцы стояли и ждали, а Серёга Яковлев, улыбаясь, громко шутил:
— Ну, Лёшик, молодец, не торопится, ничего не боится. А чё, подождём, время-то есть. Успеем.
Саньке стало смешно, он улыбнулся перемене интонации в Серёгином голосе. «Для меня и для Толи Декабрёва – жаба, для Лёшки – Лёшик-молодец».
«А может верно, жаба, — опять вспомнил вчерашнее Санька, — Витька идёт и не подозревает, что его письмо вчера сгорело. Но можно ли было отправлять такое письмо человеку, которого обидели? А может Серёга прав? Я жаба, размазня и ничего не могу решить твёрдо».
Строевой смотр
Два толстых утюга, как маневровые паровозики, медленно двигались то в одну, то в другую сторону по жёлтой в подпалинах тряпке. Пар с шипением вылетал из-под них и тут же исчезал, оставляя в воздухе запах палёной шерсти. Двое суворовцев, не доверяя тяжести чугунных утюгов, залезли на столы и вдавливали их в брюки двумя руками. От этого столы тяжело стонали, а скрепляющие их сухарики жалобно повизгивали. Рядом на стульях тосковали очередные, мечтавшие скорее, по-кавалерийски, оседлать пыхтящие паровозики. Ещё двое суворовцев стояли, повесив брюки на руки. Больше в бытовке никого не было, но длиннющий хвост незримой очереди жил своей независимой жизнью, и если бы он неожиданно подтянулся к бытовке, то захлестнул бы весь коридор. Завтра должен был состояться строевой смотр.