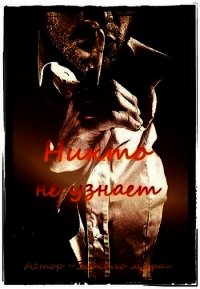Возвышающий обман - Кончаловский Андрей Сергеевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
В кадре должна была обвалиться крыша – почти прямо на наших героев. Девочке, державшей на руках мальчика, надо было дойти до отметки – так, чтобы балки рушились за ее спиной. Она до отметки не дошла – остановилась раньше. Ей кричат – она не слышит, да и трудно что-нибудь услышать. Ветродуи воют, брандспойты хлещут, она по пояс в воде – вода холодная, семь градусов. На девочках – до шеи, под одеждой – резиновые водолазные костюмы. На руках дети. И крыша валится прямо на мальчика – острым концом бревна. Если б упало чуть правее или левее, не знаю, чем бы все кончилось – наверное, самым худшим. И где бы я после этого оказался – тоже Бог ведает. А так, ничего, отделались испугом: мальчику оцарапало щеку. Я ехал со съемки, крестился, благодарил Бога и судьбу...
Когда я смотрю эту картину сейчас, вижу, насколько неровно она сделана. Смешение жанров все-таки было непривычно новым. Стихотворные диалоги, танцы, музыкальные номера – и тем не менее все достаточно органично.
Молодежь в основном приняла фильм так, как нами задумывалось. Я чувствовал: это их фильм. Но помню и немолодую женщину, кряхтевшую и ворочавшуюся весь сеанс. Когда потерявший свою любовь герой вышел от Тани, зарыдала-запела труба, хор подхватил: «Ты вернулся к нам!», женщина не выдержала и сказала: «Господи! На какую муть деньги тратят! Безобразие!» Сказала громко, на весь зал...
На Западе картину не поняли, да и вряд ли когда-либо поймут – слишком она вся советская – Родина-мать, армия, коммунальный быт. Помню, в Риме я показал фильм Бернардо Бертолуччи. Он приехал на автомобиле моей мечты – огромном «мерседесе». После просмотра Бернардо сказал:
– Ты меня разочаровал. Мы, левые художники, боремся у себя в Италии со всем этим американским стандартом – мотоциклами, длинноволосыми прическами, гитарами, со всей этой буржуазной пошлостью, а ты ее воспеваешь.
Я смотрел на его «мерседес» и думал:
«Как ему объяснить, что в нищей России, замороженной брежневским режимом, рок-н-ролл и длинные волосы – это и есть глоток живительной свободы, почти вызов, и несмотря на всю догматику идеологии „Романса“, он звучит как вызов. Поэтому-то молодежь фильм и приняла».
После первого просмотра в Доме кино ко мне подошел Володя Дмитриев, киновед, ныне замдиректора Госфильмофонда.
– Андрей, – сказал он, – ты снял почти гениальный фильм.
Я не мог понять, что значит «почти», но все равно было приятно.
Начальство не знало, как поступать с «Романсом». Принимать его приехал Демичев, член Политбюро. После просмотра он сказал какие-то слова о чувственном восприятии мира, процитировал Шопенгауэра, дал понять, что он не ординарный партократ, а философ. «Романс» был принят.
Лена Коренева пошла работать в театр, все время «Романса» мы жили вместе, потом ездили в Карловы Вары, в Берлин, – Лену всюду оформляли как мою гражданскую жену.
Месяцев через шесть после «Романса», когда уже начиналась «Сибириада», наши отношения постепенно стали охладевать. Мне хотелось домашнего уюта, еды в доме, жены, которая рядом со мной. Лена не для этого была создана: самолюбивая, порывистая, талантливая, она любила поэзию, не любила прозу быта. Мы были вместе почти три года – стало ясно, что мы расстаемся.
Кончался этот период моей жизни. Я уже думал о том, чтобы уехать за границу. Помню, я провожал Ию Саввину домой со съемок. Сказал ей:
– Я уеду. Здесь жить не могу.
Посмотрите фотографии рабочих моментов съемок – неважно какой картины. Режиссер на них чаще всего с сосредоточенным видом смотрит в глазок камеры, оттерев оператора от его рабочего инструмента. Я этим тоже грешил, особенно на первых порах работы в кино. Хотелось самому проверить точность выстроенной композиции, задуманного мизанкадра. Со времен «Романса о влюбленных» придерживаюсь в корне иной позиции: режиссеру лучше вообще не глядеть в камеру – это дело оператора.
Суть вопроса не в этике взаимоотношений двух профессий, а в эстетике кино. В сегодняшнем кино мизанкадр себя изжил. Выверенная математика композиций «Ивана Грозного» (на переднем плане сверхкрупно профиль Ивана, а за ним тысячные толпы народа, идущие звать его на трон), повторенная сегодня, оттолкнула бы зрителя. Сегодняшний зритель развращен документалистикой и ее приемами, вторгшимися в игровое кино. Самые впечатляющие документальные кадры чаще всего сняты небрежно, бесформенно даже, без заботы о красоте композиции или мизансцены. Волнует сам факт, ощущение правды факта. Потому в принципе в камеру я сейчас вообще не гляжу. Я организую жизнь, оператор ее снимает...
Лева Пааташвили появился в моей жизни, когда я готовил «Романс о влюбленных». С Рербергом я работать больше не мог, хотя и чувствовал, как мне его не хватает.
Я сталкивался с Леваном в мосфильмовских коридорах, иногда он появлялся на съемочной площадке «Дворянского гнезда» и «Дяди Вани» – неунывающий, сухой, рано полысевший, с крючковатым носом, динамичный, всегда полный оптимизма, жадно интересующийся всем новым в профессии.
Позднее Леван напомнил мне один эпизод, мной давно забытый, но на него произведший впечатление. В павильон на съемки «Дворянского гнезда» привезли из музея старинную мебель, обитую натуральной кожей серо-стального цвета.
– Не тот тон! – сказал я.
– Как! Вы же просили серо-дымчатого цвета, – стали объяснять ассистенты.
– Слишком холодный оттенок. Нужен другой тон.
Левану это запомнилось. Надо же! Привозят мебель, уникальную, раритетную, со своей настоящей обивкой, а я привередничаю: не тот оттенок тона! Леван почувствовал во мне человека, дотошного в отношении не только цвета, как такового, но и оттенков.
Леван старше меня, пришел в кино вместе с другим режиссерским поколением. «Романс» задумывался как произведение раскованное, дерзкое по своему языку, динамике камеры. Мне нужен был оператор очень молодой духом. Сможет ли? Мне самому уже под сорок, Левану – под пятьдесят.
– Не беспокойся, – сказал он. – Я тебя не подведу.
И действительно, картина снята так, будто за камерой стоял очень молодой человек. Снята так, как сегодня снимают клипы. Снимали мы на советской пленке, широкоформатной, пользовались гигантской тяжеленной камерой.
Решили – исходить из того, что реально возможно. Сделаем недостатки достоинством. Будем снимать внаглую. Пусть где-то нерезкость. Пусть зерно. Пусть тряска от ручной камеры. Пусть солнце прямо в кадр лепит. Пусть от солнечного света в кадре «бороды», пусть засветка, разрушающая изображение. Не важно. Это будет наша эстетика.
Леван, как ни дико ему было подобное слышать, риска не побоялся. Чтобы снимать так, как предлагал я, он должен был сломать себя. Ему было трудно. Тем более что с рук он прежде снимал редко. А тут чуть ли не все с рук, да еще на длинной оптике. Вплоть до 300-мм объектива, которым снимался уход в армию. Леван держал камеру на груди, сам не верил, что что-то получится. Но мышцы у него стальные. Рерберг был ленив, таскать камеру не любил, придумывал разные краны, тележки. Пааташвили брал камеру на плечо и снимал с рук.
Мы с Леваном много думали о том, как создать ощущение ослепительности, как обрушить на зрителя тот же захлеб счастья, которым живут герои. Ослепительность нельзя создать за счет интенсивности света – она возникает из перепада, контраста между светом и тьмой. Выходя на свет из темной комнаты, вы жмуритесь. То же и при съемке: должен быть провал черноты, чтобы потом глаза пронзила ярость света. Потому в первой части картины много кусков темных, провалов, за которыми следуют кадры, близкие по прозрачности к засветке. Так Леван снял сцену в ванной: темнота и слепящий луч, врывающийся сквозь оконце – вокруг нагого тела Тани он рисует почти светящийся контур.
Хотелось добиться ощущения полета почти над самой землей. Словно бы ты мчишься на мотоцикле, голову пригнул к стелющейся вокруг траве и полевые цветы бьют тебе в нос.
Для съемки сцены «Смерть героя» мы заказали семь стокиловаттных лихтвагенов.