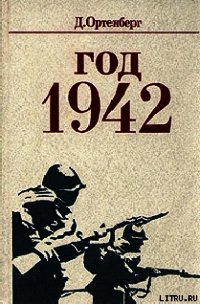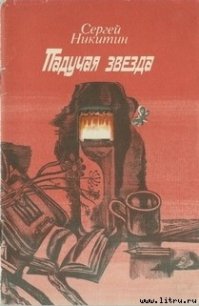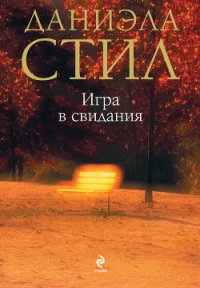Июнь-декабрь сорок первого - Ортенберг Давид Иосифович (читать книги регистрация txt) 📗
И, запасшись гранатами, залег в кустах.
Когда об этом доложили генералу Галицкому, он тотчас организовал поиски корреспондента и спас его.
- Было такое дело, - подтвердил Кузьма Никитович много лет спустя после войны, на одной из встреч с московскими литераторами.
Мы тогда искренне поблагодарили его за это, на что последовал такой ответ:
- Но и Поляков много сделал для нашей Железной...
И, наверное, Галицкий прав. Повествование Полякова увековечило подвиг дивизии, многих его бойцов, командиров и политработников.
* * *
Наша печать в ту пору отмечала, что очерки Полякова останутся историко-художественным документом целого этапа войны с гитлеровцами. Следует отметить, что это была первая документальная повесть о войне. Написана она была мастерски. Немногословно и точно донес Поляков суровую правду войны, четкими штрихами рисовал людей, товарищей по боям, красочно писал живые сценки, колоритные диалоги, точно подмечал детали фронтовой жизни и быта:
"Ездовые забрались с передками в сторону от дороги, в густой осинник. Человека три охраняли, человек тридцать спали. Но как спали? В обнимку с лошадьми. Бойцы говорят, что это для большей боевой готовности: вскочил по тревоге - и уже на коне, можно мчаться к орудиям. Некоторые откровенно признаются: с конем на земле спать теплее..."
Или такой эпизод:
"Дед походил на сказочного водяного, только что вылезшего из своего омута. С косматой непокрытой головы и с плеч свисали клочья мха и длинные водоросли. Насквозь мокрая полотняная рубаха и штаны плотно облегали его еще довольно крепкое тело. На лице, обросшем негустой окладистой бородкой, даже в ночной темноте выделялись живые с хитрецой глаза.
Корпяк - тоже мокрый до нитки, но и в этом виде не терял своего командирского облика.
- Где так вымокли?
- Пришлось в одном месте вести наблюдение из... пруда, - ответил комиссар".
Иные словечки, шутки были подслушаны в самые драматические моменты:
"Каждый избрал себе дерево или куст... Одному лишь Вайниловичу нет дерева по его росту - так высок этот самый длинный человек в нашей дивизии. Над ним шутят:
- Ты во время бомбежки становись во весь рост и замри - сверху трудно будет отличить тебя от дерева. Сам - сосна!"
Очерки Полякова сыграли также в своем роде роль "науки побеждать" врага в условиях окружения. Они учили войска в труднейшей обстановке чувствовать себя не обреченными, беспомощными "окруженцами", а "боевой частью, действующей в тылу врага", как правильно сформулировал командир легендарной дивизии.
Воинский и литературный подвиг Александра Полякова был отмечен вторым орденом Красного Знамени. И этот орден вручал ему опять-таки Михаил Иванович Калинин.
Напечатаны стихи Константина Симонова "Секрет победы". Это было уже второе его стихотворение на страницах "Красной звезды". Первое - "Презрение к смерти" - было опубликовано 24 июля. А вообще-то он появился в нашей газете, как я считал, с опозданием на месяц.
Симонов работал с нами на Халхин-Голе. О нашей первой встрече и совместной работе в "Героической красноармейской" уже писалось - и самим Симоновым, и мною. Тем не менее кое-что нужно, по-видимому, напомнить. Для прояснения последующего.
Каждый день боев с японскими захватчиками рождал новых героев. Наша фронтовая газета рассказывала о них, используя все формы журналистики: информативные заметки и корреспонденции, очерки и статьи. Но многие подвиги халхингольцев прямо-таки просились в стихи, в поэмы. А писать их некому; в составе редакции не было ни одного поэта. Я и послал телеграмму в ПУР с просьбой прислать одного поэта.
Спустя несколько дней, в жаркое монгольское утро приподнялся полог юрты, в которой я работал и жил вдвоем с Владимиром Ставским. Вошел высокий, стройный парень в танкистском обмундировании, с чемоданчиком в руках. Поздоровался на гражданский манер и молча предъявил командировочное предписание ПУРа - обычное по форме, но несколько таинственное по содержанию: "Интенданту 2-го ранга Константину Михайловичу Симонову предлагается отбыть в распоряжение редактора "Героической красноармейской" для выполнения возложенного на него особого задания".
Тут же, однако, выяснилось, что Симонов никакой не танкист и не интендант, а поэт. Утром его вызвали в ПУР, а днем он уже сидел в вагоне транссибирского экспресса и мчался в Монголию. Не успел даже экипироваться в Москве. Сменил свой гражданский костюм на военную форму уже там, где размещались фронтовые тылы. Не нашлось по его росту общевойскового обмундирования, и его облачили в танкистское. А интендантское звание он получил по той же причине, что и некоторые другие писатели, о чем я уже рассказывал.
Прочитал я предписание и уставился на поэта оценивающим взглядом. Этот мой, вероятно, чересчур пристальный взгляд Симонов истолковал не в мою пользу. Потом в своих воспоминаниях о Халхин-Голе он написал: "Человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить... в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным". Не скажу, чтобы и я сразу пришел в восторг от нашего нового сотрудника. Мы все считали, что командировка на Халхин-Гол - большая честь, выражение большого доверия; не каждому дано удостоиться этого. Думалось, что к нам пришлют именитого поэта, а о Симонове я в ту пору ничего не слыхал: ни хорошего, ни плохого.
Дальше, по свидетельству Симонова, события развертывались так:
"Редактор быстро и отрывисто со мной поздоровался.
- Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?
Ставский сказал, что возьмет.
- Ну вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите поставьте свой чемодан..."
Все так и было. Прежде чем познакомиться с поэтическим талантом Симонова, я решил проверить, что он стоит в боевом деле, и сделал это безотлагательно. Спустя двое суток Ставский и его напарник вернулись в наш "городок Героической". Первым вошел ко мне в юрту Симонов - запыленный, с горящими глазами, с какой-то торжественно-светлой улыбкой. За ним показалась мощная фигура Владимира Петровича. Ставский подмигнул мне и за спиной новичка показал большой палец. Ясно: окунул он парня в огненную купель, и тот оказался мужественным, храбрым человеком, с честью выдержал первое испытание огнем. Это меня очень обрадовало.
Газета была уже сверстана, но я снял с полосы какую-то заметку и сказал Симонову:
- Надо писать стихи. В номер. Шестьдесят строк...
Как признался поэт впоследствии, такой моей категоричностью он был огорошен вторично. Не приходилось ему никогда писать стихи в номер, да еще шестьдесят или сколько там строк. И все же он это сделал. На второй день весь фронт узнал, что в редакции появился поэт.
На Халхин-Голе Симонов сочинил походную песню, несколько частушек, но преимущественно он писал рассказы в стихах, посвященные фронтовикам, с подлинными фамилиями. В этом и состояло "особое задание", с которым его командировали к нам.
Что же касается первого впечатления друг о друге, и Симонова и моего, оно быстро и незаметно для нас обоих переросло в дружбу - долговечную, непоколебимую, никогда ничем не омраченную.
* * *
Я не мог не вспомнить о Константине Симонове в первые же дни Великой Отечественной войны. Почему же не забрал его сразу в "Красную звезду"? Неужто не было такой возможности? Теперь я уже могу открыто признаться, что в первые дни войны я сознательно не взял Симонова в "Красную звезду", хотя мог бы это легко сделать. Я уже писал, что надеялся недолго задержаться в Москве, уехать во фронтовую печать и для этого случая и "приберег" Симонова, да и других своих однополчан по Халхин-Голу и финской войне. Так, собственно, мы с Симоновым и договорились тогда, 22 июня, в первые же часы войны.
А 30 июня, когда меня официально утвердили редактором "Красной звезды" и мечты о фронтовой газете пришлось оставить, я сразу же бросился разыскивать Симонова. Узнал в ГлавПУРе, что его назначили корреспондентом в газету 3-й армии. Послал туда телеграмму. Ответа не последовало. Послал вторую - ответа снова нет. Удивляться этому не приходилось - армия вела тяжелые бои, связь с ней была неустойчивой.