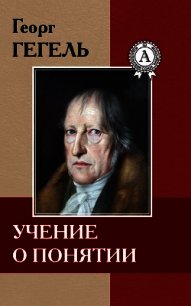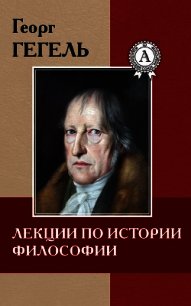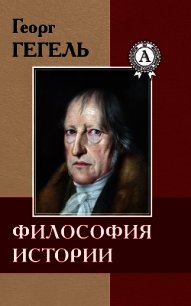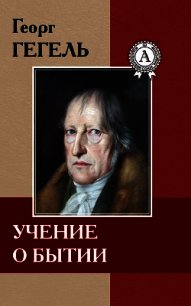Гегель. Биография - Д'Онт Жак (читаем книги .TXT) 📗
Гегель ограничился тем, что приветствовал публикацию Гешеля в статье, помещенной в «Анналах научной критики», и от всего сердца поздравил ее автора: «Угроза досадного впечатления пристрастности в оценке собственного дела не может помешать автору заметки говорить со счастливой признательностью о содержании [этого произведения] и о поддержке, которую он оказал и окажет истине; тем более она не помешает ему пожать, наконец, с благодарностью руку автора, с которым он лично не знаком, ибо написанное теснейшим образом связано с его трудами на благо спекулятивной философии» (В. S. 329).
Правда ли, что нашелся человек, который счел его воззрения невинными и безопасными? Должны ли мы буквально понимать хвалебные речи Гешеля? Все не так просто.
Гешель, похоже, был не слишком уверен в своей правоте. Он изложил и защитил то, что считал экзотерической философией Гегеля, и в одном из писем он радуется гегелевской похвале. Одновременно он ставит вопрос о значении философии Гегеля в целом, ибо этот «ортодоксальный» толкователь публичной философии Гегеля не может поверить, что за ней не скрывается другая, тайная доктрина, в связи с чем поверяет мэтру подозрения, каковые одновременно суть надежды, — и все это в письме!
Громоздко и пространно говорит он о том, какой исключительный интерес представляло бы для него устное общение с Гегелем, оно позволило бы ему понять те мысли, которые философ не захотел доверить бумаге: «Кстати, я обрел бы источник радости и возможность совершенствования, если бы в будущем году смог повидаться с Вами, господин профессор, я мог бы задавать вопросы и слушать Ваши ответы; содержание Вашего последнего письма, столь поучительного, и предисловие к 3–му изданию Вашей Энциклопедии, в связи с размышлениями д—ра Мархейнеке, которого я высоко чту […], доставили мне в этом смысле богатый материал. Написанное и застывшее слово всегда будет уступать живому раскованному общению, при котором досадные недоразумения тут же устраняются и заполняются возможные пробелы.
К примеру, мне очень хотелось бы поговорить с Вами насчет особого места философии, которое Вы, как кажется, предписываете ей вместе с Цицероном, это непросто понять, если Вы рассматриваете философию наподобие божества Эпикура, которому ни до чего нет дела, или как суровый уход “в покойные и святые тайники сердца” — хотя Вы недвусмысленно отвергли и то, и другое. Правда, что философии часто именно это и приписывают, хотя из этого не следует, что она не должна протестовать против этого приговора» (С3 278–279).
Гешель обнаруживает очевидное противоречие между тем, что предназначается читателю Гегеля и тем, что он пишет в письмах.
Это заставляет его быть более точным и, возможно, более настойчивым, говоря о предполагаемой эзотерической доктрине Гегеля в терминах, явно относящихся к классическим философским практикам: «В этом пункте я предпочел бы, дорогой и почитаемый профессор и мэтр, внимать Вам непосредственно. Как видите, я пытаюсь различить письменную науку и не — письменную, а именно, agrapha, autoprosopa, acroamatica (выражаясь по — гречески) учителей философии [109]. Во всех наших университетских заведениях разве не покоится преподавание на тех ценностях, которые письменное обучение заменить не в состоянии» (С3 280)?
Разумеется, к тому времени различные публикации Гегеля еще не были собраны в Полное собрание сочинений. Но в 1828 г. Гешель располагает уже немалым количеством опубликованных книг и пускается в размышления относительно доктрины как таковой. Ему не приходит в голову, что Гегель довольно долго не публиковался. Ему могло показаться, что Гегель недостаточно ясно и полно изложил то, о чем думал, и в этом Гешель видит очевидное объяснение досадных несообразностей. Ему хотелось бы внести ясность в этот вопрос.
Так, он настаивает: «Как бы мне хотелось иметь возможность обсудить все это с Вами! Вероятно, такая возможность будет предоставлена мне в течение будущего года…» (С3 280).
Однако письмо (от 13 декабря 1830 г.), которое Гегель отправил ему в ответ на выражение благодарности за хвалебную рецензию на его труд, Гешеля смутило. Гегель в самом деле не постеснялся заявить в нем, что «Афоризмы» Гешеля не слишком способствовали пониманию философии — да и философов: «так единым махом оказывается удовлетворенным удобное требование предоставить философию самой себе…».
Гегель замечал, кроме того, что «огромный интерес, вызванный в настоящее время политикой, поглотил решительно все, и то, что до сих пор обладало незыблемой ценностью, похоже, подвергается сомнению…» (С3 276–277).
И, наконец, он утверждал, что «философия должна — хотя бы для собственного спокойствия — отдавать себе отчет в том, что она предназначена исключительно маленькому человеку…».
Но после прочтения имевшихся в его распоряжении произведений Гегеля у Гешеля сложилось совсем другое впечатление. В них Гегель предлагал совсем другое понимание философии, ее роли, ее аудитории. Письмо Гегеля его озадачило.
Из этого он заключил, что Гегель, должно быть, задумал что‑то иное. Но каково было бы его смятение, знай он, что Гегель в это время собирался писать статью об английском Reformbill, и что, стало быть, философия не могла быть «предоставлена самой себе», что она прямо и открыто вмешивается — под пером Гегеля — в политические дела!
Ни публикации, ни лекции, ни письма не содержали последней тайной доктрины берлинского философа, и можно сомневаться, а была ли она!..
Временами Гегель говорит о письмах, полученных им от госпожи Гегель или от детей во время его или их отъездов. Не сохранилось ни одного из этих писем. По всей видимости, вдова и дети старательно их уничтожали. Из скромности?
Но довольно об этом, и так много наговорено!
VII. Элевсин
У франкмасонов еще сохранись остатки этой древней церемонии.
Вольтер [110]
К концу своего пребывания в Швейцарии Гегель, так и не блеснувший талантом в нескольких попытках стихосложения и не заблуждавшийся на этот счет, вдруг сочиняет гимн — «Элевсин»! Посвященные Гёльдерлину, эти стихи, дошедшие до нас лишь в первом наброске, написаны в Чугге и датируются августом 1796 г. Автор не рассчитывает на художественный эффект, но выбирает выражения, способные привлечь внимание к образам и идеям.
Биографы, бездумно полагая, что тот, кому посвящено стихотворение, — одновременно и есть его адресат, находят очень естественным желание Гегеля довериться другу столь необычным и замысловатым способом, несмотря на то, что в это же самое время он шлет ему длинные письма, которые с исключительной ясностью и прямотой подтверждают давнюю общность их мыслей.
Некоторые из биографов, не гадая о каких‑то особых намерениях, объясняют все минутным настроением. Желание написать стихи пришло к философу, «вдохновленному прекрасными августовскими вечерами» [111]. Хотя берега Бьенского озера благоприятствуют размышлениям о древнем греческом святилище не более, чем березы берлинского кладбища наводят на мысль о ливанских кедрах. Когда вопросов нет, зачем мучиться с ответом…
Но с Гегелем никогда ничто не происходит попросту и незатейливо. Стихотворение «Элевсин» — подходящий случай — а таковых всегда больше, чем у нас возможностей ими воспользоваться — разобраться с важными и малоизвестными сторонами личности автора, а равно культурной среды, в которой эта личность сложилась.
Текст опирается на греческую мифологическую традицию, осовременивая ее. Подспудно идеологический, он подчас походит на разбавленный лирикой теоретический манифест. Если Гёльдерлин когда‑нибудь его читал, он должен был бы остаться довольным: в нем на разные лады превозносится свойственное обоим молодым людям пантеистическое мировоззрение.