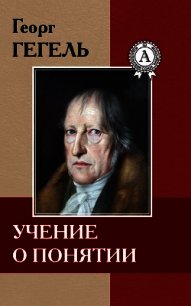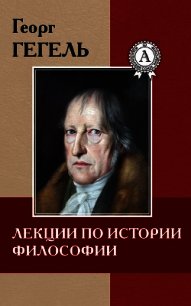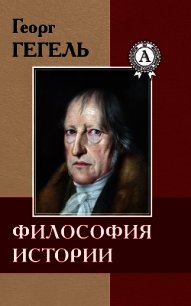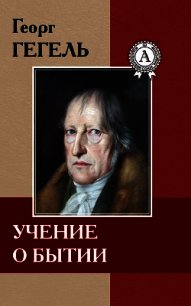Гегель. Биография - Д'Онт Жак (читаем книги .TXT) 📗
Реальная Невидимая церковь может быть только подпольной. Об этом думает Гегель? Слово Vereinigung часто означает нечто позитивное: некое сообщество.
Если уже Кант употреблял понятие «Невидимой церкви» в разных смыслах, то другой автор обращался с ним еще смелее. Лессинг, предмет восхищения Гегеля, постоянно им цитируемый, подразумевал под ним франкмасонство, как он себе его представлял. В «Эрнсте и Фальке, масонских диалогах» (1778), охарактеризовав образцовых, по его представлению, людей, он добавляет: «И раз эти люди живут не в полной изоляции, однажды они перестанут быть Невидимой церковью» [101]… тогда все увидят, что они составляют франкмасонское братство, которое явится при свете дня! У читателя Лессинга не должно было оставаться ни тени сомнения: Невидимая церковь — это франкмасонство. Масоны, как он их понимает, образуют ныне «Невидимую церковь».
Гегель, Гёльдерлин, Шеллинг прекрасно знали эти тексты. И даже если они употребляли термины в смысле, далеком от того, который вкладывал в них Лессинг, они не могли не иметь в виду также и этого значения. При этом они всегда склонны употреблять традиционные религиозные формулы, помещая их в контекст, затемняющий и нейтрализующий их религиозный смысл, но не лишающий их этого смысла полностью. Так, Гёльдерлин в письме 1795 г. их общему другу Иоганну Фридриху Эбелю (1764–1830), демократу, революционеру, просветителю, говорит о своих надеждах: «Мыслящие люди, Вы это знаете, должны общаться между собой везде, где заметно малейшее дыхание жизни, объединяться во всем, что не подлежит отторжению, с тем чтобы этот союз, эта Невидимая и воинствующая церковь произвели великого Сына Времен в тот День из дней, о котором человек — ему принадлежит моя душа — (апостол, столь же мало понятый современными эпигонами, сколь мало они понимают самих себя) говорит, что это будет Пришествие Господне. Я должен остановиться, а то не остановлюсь никогда…» [102]
Начало этого отрывка подхватывает идею, используя почти те же выражения, масонского призыва Лессинга. Гёльдерлин просит Эбеля приветствовать от его имени этих «достойных друзей»… [103] Текст письма можно соотнести как с письмом Гёльдерлина Гегелю от 10 октября 1794 г., действительно с ним созвучным, так и с посланием апостола Павла (I Фес. 4, 15), из которого позаимствованы некоторые слова: совершенно очевидно, что явные религиозные аллюзии имеют в виду что‑то другое. Гёльдерлин, при случае, мог бы сослаться на первый смысл, но какие изменения он претерпел в этом несообразном окружении? Кто этот человек, которому принадлежит душа Гёльдерлина? Что может знать о нем Эбель? Чем объяснить эти Сивиллины пророчества? Гёльдерлин пользуется если не, собственно, шифром, то, несомненно, условным языком. Будучи замеченным у лиц, уже находящихся на подозрении, он только бы укрепил подозрения. Герцог Вюртембергский вскоре сорвет крупный заговор революционеров. Его полиция всюду ищет заговорщиков. Как бы она истолковала — ошибочно или нет — «День из дней»?
В политике, в религии Гегель двусмыслен и осмотрителен. Трудно сказать, где здесь интеллектуальная робость, а где тактическая трезвость. Его письма изобилуют успокоительными выражениями, он придерживается того, что называет «узаконенной (философски) нуждой Бога в нас» (С1 22)…
Но в том же самом письме он может наброситься на богословов. Рассыпаться антиклерикальными, революционными, дерзкими заявлениями. Попади эти послания в руки Штайгеров, их величеств из Бернского совета, кантональной полиции, швейцарских пасторов, что подумали бы они о таком странном «духовном наставнике»?
Осмотрительность
После пребывания в Швейцарии Гегель никогда больше не распахивал своей души в письмах, доверенных почте. В этой стране он пользовался особым положением, по крайней мере так ему казалось.
В разные годы проживая подле близких, Гегель не будет писать им: бумага осталась чистой, а отзвучавшие слова растаяли в воздухе. Время шло, круг общения менялся. Гельдерлин неотвратимо погружается в безумие. Шеллинг, увлеченный соперничеством, и, как следствие, нарастающей враждебностью, от него отдаляется. Гегель обращается к новым коллегам или возобновляет старые знакомства, например, с Кнебелем. Но в первую очередь именно с Иммануэлем Нитхаммером (1766–1848), сотрудником Фихте в Йене, влиятельным баварским администратором — с ним Гегель уже встречался во время учебы в Тюбингене — поддерживает он интересную переписку до тех пор, пока, после переезда философа в Берлин, и эта связь, в свой черед, не ослабевает.
После Реставрации, живя при политических режимах, держащихся на полицейских порядках и подавлении свобод, Гегель и его корреспонденты должны будут соблюдать осторожность. Один лишь факт такой сознательной предусмотрительности говорит об оппозиционном, протестном, читай подрывном, характере их мнений.
Полиция не только тайком вскрывала письма, иногда она это делала официально. Во времена преследования иллюминатов, главным образом, хотя и не исключительно, между 1784 и 1790 гг., на баварской почте были созданы специальные бюро по перлюстрации переписки. Множество людей подверглось преследованиям в судебном порядке вследствие такой практики. Люди благоразумные — а Гегель был из их числа — по крайней мере знали, с кем имеют дело.
Эта практика, всем известная в Баварии, более или менее регулярно, хотя и не столь открыто, применялась во всех немецких государствах, а в конечном счете во всей Европе. Так, в 1790 г. полиция потревожила Мовильона, известного Aufklärer’a, просветителя, друга Мирабо, товарища юного Бенжамена Констана в Брюншвиге, потом знаменитого иллюмината, в связи с некоторыми его взглядами, ставшими ей известными, благодаря перлюстрации его писем. Дроз напоминает об этом деле: «Цензуре подлежит также и корреспонденция. В 1790 г. ландграф Гессе велел вскрыть два письма друга Мирабо Мовильона, одно библиотекарю города Касселя Кюту, в котором он писал, что французская революция распространится на всю Германию, и другое — канцлеру Кноблауху в Нассау — Дилленбург, клеймящее союз богословия и деспотизма. Ландграф заставил Кюта [адресата письма!] подать в отставку и потребовал от компетентных властей привлечь к ответственности Мовильона, а при случае и Кноблауха…» [104]
Этот пример, взятый из тысяч подобных только потому, что он касается важных персон, с которыми не принято вести себя так бесцеремонно, как с остальными, показывает достаточно ясно, какому риску подвергали себя «три товарища» во время пребывания Гегеля в Швейцарии, обмениваясь в письмах мнениями, вполне совпадавшими со взглядами Мовильона.
Также из‑за письма, адресатом которого он был, надолго посадили в тюрьму «репетитора» Гегеля, его ученика и друга Хеннинга (1791–1866) [105]. Почти все подозреваемые и обвиняемые, судьбой которых столь живо будет интересоваться Гегель в Берлине, будут задержаны в связи с высказываниями, содержавшимися в письмах, вскрытых или изъятых полицией.
В такой ситуации первая и естественная, хотя и радикальная, предосторожность состоит в отказе от переписки. Тот, кто хорошо знаком с письмами Гегеля, отчетливо ощущает, что иногда он прибегал к этой мере, поскольку в некоторых письмах присутствуют неясные намеки на те или иные сведения, отсутствующие в предшествующих письмах, переданные, по — видимому, иным способом, скорее всего устно, путешественниками или дружескими посланниками.
Другая благоразумная мера — миновать официальную почту, использовав для передачи писем поездки друзей. Гегель знает, что его курьера, как и посланника его друзей, проводят в «черный кабинет». Нарочными — сам Гегель говорит: «телесными вестниками», т. е. вестниками из плоти и крови (leibhaftig) — выступают коллеги или студенты. Это главным образом кандидаты, сдающие экзамены и переезжающие из одного университета в другой, обеспечивая функционирование того, что Гегель и Нитхаммер называют Kandidatenpost, добровольной и конфиденциальной «кандидатской почтой».