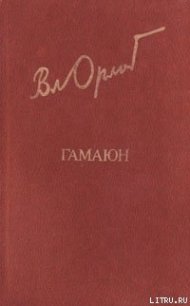Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материала - Немеровская О.
Н. Бердяев
Последнее время почти ничего не пишется и не ходится ни в какие гости. Литературные воскресенья и знаменитые «среды» Вяч. Иванова давно уже влекут меня не слишком сильно. Совсем разучиваюсь говорить и погружаюсь в себя.
Письмо к отцу 25/IV 1906 г.
Среды стали уж не те – серо и скучновато.
Письмо к матери 30/XI 1908 г.
Собрания по средам постепенно начали расширяться, появлялись все новые и новые люди. В Петрограде много говорили об «Ивановских средах», они вызывали к себе интерес в разных кругах. На одной из «сред», когда собралось человек шестьдесят поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого наряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около всех дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого нежданным гостям пришлось признать свою ошибку… Политики на «средах» не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на «средах». В другую эпоху «среды» были бы невозможны. На третий год своего существования собрания по средам начали вырождаться, они потеряли свой интимный характер и стали слишком многолюдными. В последнюю зиму начало бывать много артистов нового театра Комиссаржевской. Много молодежи; бывали люди, совсем неизвестные хозяевам, и собеседования потеряли свой прежний характер.
Н. Бердяев
17 октября 1911 г.
Вячеслав Иванов. Если хочешь сохранить его, – окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия глубоко врезалась. Внутри воет Гете, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает – большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. Дочь – худа, бледна, измучена, печальна.
Дневник А. Блока
В конце пятого года и в шестом «среды» Вячеслава еще имели некоторую связь с революцией, с общественностью. Но выявление их и развитие шло в сторону интеллигентского сектантства, мистической соборности, выставляемой против анархизма личности, тоже поощряемого. Все более накипало гурманство в отношении к темам. Ничего не решалось крепко и ясно. Процесс обсуждения был важнее самого искомого суждения. Целью художнику ставилось идти от земной реальности к реальности небесной через какие-то промежуточные звенья сознания, которые именно и должен был уловить поэт-символист путем изображения «соответствий». В конце концов всю эту хитрую музыку каждый понимал по-своему, но она постулировалась как всеми искомая единственная истина. Возражали: будущие богоискатели, марксисты и реалисты, но настроение давал Вячеслав. От идеи страдающего Диониса и, следовательно, поэта-жертвы, он уже начинал переходить к идее «совлечения», «нисхождения», применяемой к исторической судьбе России. Достоевский назывался «Федором Михайловичем», как сообщник и хороший знакомый. Чем больше разгоралась реакция, тем более «среды» заинтересовывались идеями эротики. Из этой хитрой музыки выявлялись самые разнообразные течения. Чулков спелся с Вячеславом на теме «мистического анархизма» и ловил на «Факелы» Андреева и Блока. Первый попался больше, чем второй. Молодой студент Модест Гофман [48] изобрел «соборный индивидуализм». Но все было замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски-самодовольном кругу. Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркозами атмосфера стояла на «башне», построенной «высоко над мороком жизни». Дурман все сгущался. Эстетика «сред» все гуще проникалась истонченной эротикой. Кузьмин пел свои пастушески-сладострастные «Александрийские песни». Сомов и Бакст были законодателями вкуса в живописи, прянно-чувствен-ного – у первого через призму помещичьей жизни, у второго – через античность. Без конца читал Вячеслав свое любимое всеми стихотворение.
С. Городецкий
МЭНАДА
«Башня» казалась мне символом безвременности; а сама повисала над «временем», над современностью… Порою Иванов устраивал ратоборства (ну, кто кого – Аполлон Диониса, иль Дионис Аполлона?). И с приходящими на «башню» С. К. Маковским [49], В. А. Чудовским [50] и особенно с Гумилевым сражался. Бывало: В. И. весь взъерошится, покраснеет, забьет пальцем в стол и покрикивает громко в нос (негармоничными, скрипичными нотами, напоминающими петушиные крики); наскакивает на чопорно стянутого Гумилева, явившегося к часу ночи откуда-то – в черном фраке, с цилиндром и в белых перчатках, прямо сидящего в кресле, недвижно, невозмутимо, как палка, с надменно-бесстрастным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; Гумилев отпарировал эти наскоки Иванова не словами, скорей – своим видом, Иванов же – втравливает в «свару», бывало, меня; я – поддамся: я начинаю громить «аполлоновскую» легкомысленность: после дружно мы все распиваем вино.
Не забуду я одного разговора: В. И., очень-очень лукаво расхаживая пред И. С. Гумилевым – с иронией пускал едкости, что, мол, вот бы вы, И. С. – вместо того, чтобы отвергать символистов, придумали бы свое направление, – да-с; и, подмигивая, предложил сочинить мне платформу для Гумилева он; я тоже начал шутливо и, кажется, употребил выражение «адамизм»; В. И. тотчас меня подхватил и – пошел и пошел; выскочило откуда-то слово «акмэ» (острие); и Иванов торжественно предложил Гумилеву стать «акмэистом». Но каково же было великое изумленье его, когда сам Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив ногу на ногу: